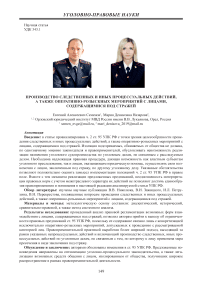Производство следственных и иных процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий с лицами, содержащимися под стражей
Автор: Семенов Е.А., Назарова М.Д.
Журнал: Вестник Казанского юридического института МВД России @vestnik-kui-mvd
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 3 (61) т.16, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализирована ч. 2 ст. 95 УПК РФ с точки зрения целесообразности проведения следственных и иных процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий с лицами, содержащимися под стражей. Изоляция подозреваемых, обвиняемых от общества не должна, по однозначному мнению законодателя и правоприменителей, обусловливать невозможность реализации назначения уголовного судопроизводства по уголовным делам, не связанным с расследуемым делом. Необходима надлежащая правовая процедура, дающая возможность как властным субъектам уголовного преследования, так и лицам, оказывающим юридическую помощь, осуществлять свои полномочия с лицом, заключенным под стражу, по другому уголовному делу. Указанные обстоятельства позволяют положительно оценить замысел имплементации положений ч. 2 ст. 95 УПК РФ в правое поле. Вместе с тем механизм реализации предложенных предписаний, неоднозначность интерпретации правовых норм с учетом межотраслевого характера их действий не позволяют достичь единообразия правоприменения и понимания в настоящей редакции анализируемой статьи УПК РФ. Обзор литературы: изучены научные публикации В.В. Николюка, В.И. Зажицкого, И.Л. Петрухина, В.Н. Перекрестова, посвященные вопросам проведения следственных и иных процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий с лицами, содержащимися под стражей. Материалы и методы: методологическую основу составили: диалектический, исторический, сравнительно-правовой, а также метод системного анализа. Результаты исследования: проведенный анализ правовой регламентации возможных форм взаимодействия с лицами, содержащимися под стражей, позволил авторам прийти к выводу об ограниченности правовых предписаний ст. 95 УПК РФ, поскольку ее содержание связано лишь с конкретизацией исключительно оперативно-розыскных мероприятий, допускаемых к проведению с рассматриваемой категорией лиц. Правоприменительной практикой выработан более широкий подход, выходящий за рамки указанных непроцессуальных действий и включающий производство следственных, иных процессуальных действий по уголовным делам, не связанным с тем, по которому к лицу применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Обсуждение и заключение: авторами обоснованы изменения в ст. 95 УПК РФ. Предложенные нововведения направлены на оптимизацию уголовно-процессуального законодательства, а также легализацию возможных средств общения с лицом, изолированным от общества, получивших широкое распространение в рамках правоприменительной деятельности.
Лица, содержавшиеся под стражей, оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ), получение разрешения на проведение ОРМ, встречи с задержанным, меры уголовно-процессуального принуждения
Короткий адрес: https://sciup.org/142245712
IDR: 142245712 | УДК: 343.1 | DOI: 10.37973/2227-1171-2025-16-3-149-155
Текст научной статьи Производство следственных и иных процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий с лицами, содержащимися под стражей
В рамках исследования предметом внимания является диспозиция ст. 95 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УПК РФ), заключающая в себе значительный пласт правоприменительной деятельности, но имеющая неоднозначное наименование («порядок содержания подозреваемых под стражей»), а также недостаточное нормативное предписание. Так, указанная норма разрешает организацию «встреч» сотрудникам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность (далее по тексту – ОРД), с подозреваемыми, содержащимися под стражей.
Правовая природа такого рода взаимодействия подозреваемых и органов дознания, в том числе по отмеченным причинам, неоднозначно воспринимается в правоприменительной практике, а законность проведения подобного рода встреч вызывает разночтения в юридической литературе. С точки зрения И.Л. Петрухина, таковые встречи могут преследовать только две цели. К ним автор относит следующие: «Вербовка подозреваемого или дача ему инструкций о проведении оперативной работы с заключенными или получение сведений о результатах этой работы; а также склонение подозреваемого к признанию вины и выдаче соучастников путем проведения бесед и других действий не процессуального характера» [1, с. 105].
Схожая позиция находит свое отражение в комментариях к УПК РФ под редакцией Ю.Ю. Чурилова: «Подобного рода встречи зачастую связаны с понуждением подозреваемого дать признательные показания» [2, с. 224].
Противоположной точки зрения придерживается В.И. Зажицкий. По его мнению, подобные встречи необходимы, поскольку направлены на раскрытие других преступлений, о которых подозреваемый может быть осведомлен [3, с. 34].
В.Н. Перекрестовым высказана радикальная позиция о необходимости упразднения ч. 2 ст. 95 УПК РФ. Автор обосновывает ее тем, что оперативные сотрудники проводят с подозреваемыми (обвиняемыми) незаконные действия [4, с. 162].
Указанные обстоятельства обусловливают необходимость развития и совершенствования правовых норм, регламентирующих возможные формы реализации своих полномочий властными субъектами уголовного преследования, а также лицами, оказывающими юридическую помощь, с лицами, заключенными под стражу.
Обзор литературы
Процессуальным вопросам организации производства оперативно-розыскных мероприятий с подозреваемыми, находящимися под стражей, в рамках ст. 95 УПК РФ в юридической литературе уделено недостаточное внимание. В связи с этим интерес представляют исследования В.И. Зажиц-кого, который отмечает факт ограниченности нормативных предписаний ч. 2 ст. 95 УПК РФ. В рамках анализа обозначенной темы представляют интерес труды И.Л. Петрухина, который рассматривает законность проведения подобных встреч. Профессором В.В. Николюком высказаны предложения об унификации процедуры получения разрешения от следователя, дознавателя или суда на производство оперативно-розыскных мероприятий по рассматриваемой категории подозреваемых.
Материалы и методы
Используемые методы позволили проанализировать вопросы, относящиеся к предмету исследования, а также предложить новую авторскую редакцию ст. 95 УПК РФ, обосновав данные изменения особым предназначением указанной нормы. Эмпирической основой явились опубликованные результаты исследований ученых-процессуалистов, а также изучение следственной практики.
Диалектический метод как всеобщий метод познания позволил сформулировать авторские выводы, использование исторического метода дало возможность проследить эволюцию норм, связанных с необходимостью появления рассматриваемых правовых процедур. Сравнительно-правовой метод был направлен на разграничение законодательных предписаний различных отраслей права в части реализации полномочий должностных лиц, расследуемых разные уголовные дела, совершенные одним лицом.
Результаты исследования
Акцентируя внимание на вопросах легального построения диспозитивной части ч. 2 ст. 95 УПК РФ, следует отметить, что выбивается из «общего строя» термин «встречи», который В.И. Зажицкий иронично, но абсолютно обоснованно назвал «лирическим и явно не подходящим для контекста ст. 95 УПК РФ» [3, с. 34].
Рассматривая этимологическое значение упомянутого термина, следует обратить внимание на его толкование. Так, в словаре под редакцией Д.Н. Ушакова под встречей понимается «схождение в одном пункте при движении с разных сторон; прием кого-нибудь прибывающего»1. В словаре С.И. Ожегова встреча раскрывается как «собрание, устраиваемое с целью знакомства с кем-нибудь, беседы»2.
Следовательно, с учетом толкового анализа понятия «встречи» следует заключить, что его содержание предполагает неформальное общение принимающего лица, т.е. подозреваемого, заключенного под стражей, и должностного лица в лице органа дознания, что с точки зрения нормативного предписания противоречит действительности. Действующая формулировка ч. 2 ст. 95 УПК РФ предполагает проведение оперативно-розыскных мероприятий с заключенным под стражу лицом, что не может являться формальным общением.
Поиск правового источника, детерминирующего появления термина «встречи» в кодифицированном нормативном правовом акте, практически не дал нам никого результата. УПК РСФСР3 ни в какой редакции не включал такое «образное» понятие. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»4 даже при проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий «встречи» не регламентирует. Таким образом, общение, в рамках которого задействованы должностные лица каких-либо правоохранительных органов, никакой правовой акт ни ранее, ни в настоящее время не легализует, за исключением единственного случая, являющегося предметом нашего внимания в статье.
Вместе с тем отдельные случаи такого неформального общения без участия должностных лиц все же отмечены в трех нормативных правовых актах, в числе которых и УПК РФ, который в ч. 13 ст. 107 дозволяет проводить встречи подозреваемому или обвиняемому, находящимся под домашним арестом, с защитником, законным представителем, а также с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов подозреваемого или обвиняемого в сфере предпринимательской деятельности проходят в месте исполнения этой меры пресечения. В п. 5 ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельно- сти и адвокатуре в Российской Федерации»5 адвокату предоставляется право беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в условиях, обеспечивающих конфиденциальность… Укажем еще один нормативный акт, который использует термин «встречи» без задействования должностных лиц, это Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ6, который в статье 5.15 санкционирует нарушения сроков по фактам предоставления помещений и права на предоставление помещений для встреч с избирателями, участниками референдума.
Исходя из анализа первоисточника появления правового понятия «встречи», следует согласиться с В.И. Зажицким о том, что данный термин не совсем уместен в ст. 95 УПК РФ. В связи с этим представляется необходимым исключить указанное понятие из дефиниции ст. 95 УПК РФ, заменив его на «перечень мероприятий, проведение которых возможно с лицом, содержащимся под стражей».
Вместе с тем, рассматривая целесообразность проведения подобных «встреч», отметим, что мы не разделяем позицию авторов, настаивающих на необходимости упразднения ст. 95 УПК РФ, поскольку главная задача правоохранительных органов – это борьба с преступностью, а лицо, находящееся под стражей, может способствовать реализации назначения уголовного судопроизводства и задач органов предварительного расследования.
Однако при анализе ст. 95 УПК РФ возникает ряд вопросов, ответы на которые до настоящего времени в нормах действующего законодательства, а также в доктрине уголовного процесса не нашли отражения.
Итак, часть вторая упомянутой статьи устанавливает, что «в случае необходимости проведения оперативно-розыскных мероприятий допускаются встречи сотрудника органа дознания, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с подозреваемым с письменного разрешения дознавателя, следователя или суда, в производстве которых находится уголовное дело».
При буквальном толковании рассматриваемой нормы напрашивается вывод, что ее дей- ствие распространяется лишь на производство ОРМ исключительно с подозреваемым и лишь сотрудниками, осуществляющими ОРД. В связи с этим следует согласиться с В.И. Зажицким, что требования ч. 2 ст. 95 УПК распространяются и на встречи с обвиняемыми, содержащимися под стражей [3, с.34], которые в указанной статье не упоминаются.
Необходимость его имплементации в положение действующей статьи обусловлено рядом факторов. Во-первых, анализ правоприменительной практики меры пресечения в виде заключения под стражу дает основание утверждать, что избирается она, как правило, лицу, находящемуся в процессуальном статусе обвиняемого; во-вторых, в соответствии со ст. 100 УПК РФ, обвинение должно быть предъявлено в десятидневный срок, следовательно, лицо так или иначе приобретает процессуальный статус обвиняемого. К тому же производство непроцессуальных действий в рамках ч. 2 ст. 95 УПК РФ допускается и с разрешения суда, в производстве которого находится уголовное дело, где лицо априори не может иметь процессуального статуса подозреваемого. На основании изложенного считаем целесообразным внесение изменений в ст. 95 путем расширения допустимого круга участников, с которыми возможно проведение оперативно-розыскных мероприятий.
Следует обратить внимание еще на один факт. В правоприменительной практике так называемые «встречи» осуществляются и с иными сотрудниками органов дознания (например, участковыми уполномоченными), а также дознавателями и следователями по уголовным делам, не связанным с тем, по которому лицо заключено под стражу. Справедливо отметил В.В. Николюк, что при явных пробелах в законе правоприменитель берет на себя роль законодателя [5, с. 59].
Несмотря на то, что проведение подобных «встреч» не предусмотрено нормами УПК РФ, обусловлены они, прежде всего, служебной необходимостью. К примеру, у участкового уполномоченного может находиться на рассмотрении материал проверки в отношении лица, которое в настоящий момент содержится под стражей за совершение иного преступления, или у следователя (дознавателя) в производстве находится уголовное дело, при производстве по которому необходимо произвести допрос такового лица. И тут возникает ряд вопросов: как быть сотруднику, которому необходимо провести процессуальные действия в рамках предварительной проверки, либо как быть следователю (дознавателю) в производстве у которых находится уголовное дело, при необходимости произвести следственные действия с лицом, заключенным под стражей?
Как показывает правоприменительная практика, следователь, в производстве которого находится уголовное дело с лицом, содержащимся под стражей, дает разрешение не только органу дознания, но и иным должностным лицам на производство следственных и иных процессуальных действий с этим лицом. Несмотря на то, что подобные правоотношения не регламентируются и не связаны диспозицией ч. 2 ст. 95 УПК РФ, в проведении таких встреч возникает служебная необходимость. Поскольку невозможность реализации упомянутых действий может повлечь освобождение ,либо же непривлечение лица к уголовной ответственности за совершение иного преступления, либо же неполучение полного объема доказательств, необходимых для разрешения уголовного дела по существу, представляется целесообразным расширение спектра действия рассматриваемой нормы путем дополнения ч. 2 ст. 95 УПК РФ указанными должностными лицами.
Еще одним немаловажным моментом, на который стоит обратить внимание в рамках статьи, является получение непосредственно самого разрешения на проведение встреч с лицом, содержащимся под стражей. Как справедливо отмечает В.В. Николюк, «в законе нет каких-либо указаний относительно порядка обращения оперативного сотрудника к следователю за таким разрешением». Профессор размышляет над вопросом: «Должно ли оно быть в письменном виде или достаточно просьбы, высказанной устно или по телефону? [6, с. 117]». Изучение опыта работы следственных подразделений, а также собственная практика одного из авторов статьи свидетельствуют, что в случаях когда необходимо получить разрешение от судьи, составляется письменный запрос с указанием целесообразности проведения таковой «встречи», с другой стороны, взаимодействие следователя и другого должностного лица не формализовано, т.е. для получения разрешения от следователя достаточно личной просьбы. В.В. Николюк справедливо отмечает, что процедура получения разрешения должна быть универсальной [6, с. 117]. Мы разделяем позицию автора, в связи с этим полагаем необходимым закрепить в УПК РФ обязанность дачи разрешения только при предоставлении письменного ходатайства.
Обсуждение и заключение
Итак, резюмируя вышесказанное, следует отметить:
-
1. Категорический запрет на возможность «встреч» с лицом, содержащимся под стражей, недопустим, поскольку реализация назначения
-
2. Необходимость включения в название и в содержание ст. 95 УПК РФ обвиняемого, с которым допустимо проведение «встреч» при применении к нему самой строгой меры пресечения.
-
3. Целесообразность расширения круга субъектов, которые могут претендовать на таковые «встречи».
-
4. Необходимость закрепления унифицированной процедуры получения разрешения на производство процессуальных и непроцессуальных мероприятий, проведение которых возможно с лицом, содержащимся под стражей.
уголовного судопроизводства не может быть достигнута при изоляции лица.
С учетом проведенного исследования предлагаем изложить ст. 95 УПК РФ в следующей редакции:
«Статья 95. Порядок содержания подозреваемых, обвиняемых под стражей
-
1. Порядок и условия содержания подозреваемых, обвиняемых под стражей определяется федеральным законом.
-
2. В случае необходимости проведения оперативно-розыскных мероприятий, следственных и иных процессуальных действий допускается возможность их проведения следователями, дознавателями, а также сотрудниками органов дознания с письменного разрешения лица, ведущего производство по уголовному делу.
-
3. Дача разрешения, указанного в части второй настоящей статьи, производится на основании мотивированного ходатайства сотрудника органов дознания, следователя, дознавателя».