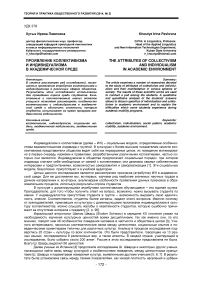Проявление коллективизма и индивидуализма в академической среде
Автор: Хутыз Ирина Павловна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Педагогические науки
Статья в выпуске: 2, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрен ряд исследований, посвященных проявлению атрибутов коллективизма и индивидуализма в различных сферах общества. Результаты этих исследований использованы для проведения опроса среди студентов. Качественный и количественный анализ ответов учащихся позволяет рассмотреть особенности коллективизма и индивидуализма в академической среде и объяснить сложности, которые студенты испытывают во время программ академической мобильности.
Коллективизм, индивидуализм, социальная модель, академическая мобильность, академическая среда
Короткий адрес: https://sciup.org/14936346
IDR: 14936346 | УДК: 378
Текст научной статьи Проявление коллективизма и индивидуализма в академической среде
Индивидуализм и коллективизм (далее – И/К) – социальные модели, определяемые особенностями взаимоотношения индивида с группой. В культурах с более высоким показателем качеств коллективизма представители общества видят себя как неразрывное целое, их поведение мотивировано в первую очередь нормами и правилами, разработанными различными коллективами, частью которых они являются. Индивидуализм в обществе предполагает социальный порядок, при котором индивиды считают себя свободными от связей с коллективами; они движимы своими собственными интересами и предпочтениями, возможностью саморазвития и самореализации [1]. Эти социальные модели, безусловно, присутствуют и в учебной аудитории.
Целью данного исследования является рассмотрение признаков (атрибутов) И/К в академической среде. Для ее достижения мы, во-первых, изучаем ряд наиболее значимых научных трудов в данном направлении и, во-вторых, анализируем особенности проявления данных признаков в образовательном процессе, используя результаты опроса студентов.
В культуре с доминирующими атрибутами коллективизма обучающиеся – это единая группа. Преподавателю, для того чтобы получить ответ на вопрос, возможно, нужно вызывать студента по имени. У индивидуалистов присутствие студента в группе – возможность выразить свою идентичность, мнение. Соответственно, студенты более активны, задают много вопросов. Именно поэтому от преподавателей, приехавших из культуры с доминирующими признаками индивидуализма в культуру коллективистов, можно слышать жалобы о неактивности студентов, которую ошибочно принимают за отсутствие интереса к предмету [2, p. 96].
Израильский антрополог Шалом Шварц (Shalom Schwarz) в середине XX столетия указал на необходимость изучения культурных ценностей всеми дисциплинами, так как именно они, по его мнению, говорят нам об особенностях поведения человека в частности и общества в целом [3]. Ученого интересовало, насколько систематические связи между ценностями, социальным опытом и поведенческими ориентирами типичны для различных культур. Анализу в процессе исследования подверглись 20 стран – культуры со всех континентов. Это были представители, говорящие на 13 разных языках, последователи 8 религиозных вер, а также атеисты. В каждой стране, участвующей в исследовании, было собрано около 200 анкет. Россия в этом исследовании представлена не была. Всего Ш. Шварц выделил 56 ценностей.
Далее ученые из Испании [4] продолжили исследование Ш. Шварца и некоторых других ученых, пытающихся найти связь между культурой и особенностями поведения, между ценностными принципами Ш. Шварца и параметрами измерения культур, выявленными другими учеными [5; 6; 7]. В результате была установлена связь между такими показателями, как низкая плотность населения и урбани- зация, миграция и переход от расширенной к нуклеарной семье. Все эти процессы способствуют развитию индивидуализма. В целом, отмечают ученые, с ростом богатства страны, увеличивается и стремление людей к уединенности, независимости [8]. Мобильность специалистов также является показателем интенсификации качеств индивидуализма.
Группа ученых из США соотнесла определенные Ш. Шварцем ценности с тем, насколько они типичны для культур И/К [9]. В результате исследователи пришли в выводу о том, что культурам, склонным к индивидуализму, характерно такое проявление ценностных ориентиров, как богатство, социальное признание, общественный имидж (ценность власть); амбициозность, стремление к успеху, развитие способностей (достижение); независимость, любопытство, самоуважение (саморазвитие) и т.д.
Для коллективистов свойственны: обходительность, великодушие, честность, лояльность (доброжелательность); уважение к традициям, принятие жизненной позиции других, религиозность, скромность, умеренность (традиционность); повиновение, самодисциплина, уважение к родителям, старшим (конформизм). К смешанным ценностям ученые отнесли: равенство, социальная справедливость, мудрость, единение с природой, широта мышления (универсализм); чувство принадлежности, взаимопомощь, стабильность в семье, здоровье, национальная безопасность (безопасность); внутренняя гармония, поиск смысла жизни (одухотворенность).
Особенности проявление И/К интересуют не только антропологов и социологов, но и психологов. Так, посредством мета-анализа была определена связь социокультурных моделей И/К с психологическими основами поведения человека, а именно: ценностями, самооценкой, особенностями выстраивания взаимоотношений и когнитивными процессами [10]. Цель данного исследования была в том, чтобы рассмотреть влияние И/К на другие важные для функционирования индивида и общества факторы. Ученые помещали испытуемых в ситуации, стимулирующие проявление данных признаков, и анализировали проявление культурно-специфичных особенностей, связанных с выявлением ценностей, норм поведения, отношений к событиям и явлениям и т.д. Классифицировав результаты исследования, ученые пришли к выводу о том, что существует тесная связь между И/К и психологическими состояниями и моделями поведения, которые еще не достаточно изучены и описаны в рамках теории межкультурной коммуникации [11].
Безусловно, есть ученые, которые считают, что анализ культур и поведенческих моделей через призму И/К искажает результаты исследований и не может считаться надежным. Так, М. Воронов и Дж. Сингер (2002) указывают на проблемные места теории И/К, считая ее лишенной систематизированных данных, нечеткой и, соответственно, не являющейся надежным объяснительным механизмом. Они также указывают, что любая дихотомия не может дать четкое и точное описание, а, наоборот, представляет предмет изучения в черно-белом свете [12]. Свою точку зрения они подтверждают примерами из исследований, которые выявили у японцев, считающихся традиционно культурой коллективистов, высокие показатели индивидуализма. Так, Т. Ямагиши (Toshio Yamagishi), сравнив поведение американцев и японцев в схожих ситуациях, выявил, что при отсутствии контроля или карательных мер японцы выражали меньшую готовность к кооперации, чем американцы. Как только появлялся контроль или меры принудительного воздействия, готовность японцев к кооперации возросла от 44,4 % до 74,6 %; у американцев данный показатель изменился от 56,2 % до 75,5 %. Таким образом, американцы демонстрировали изначально большую готовность к кооперации, чем японцы. Сам Т. Ямагиши считает, что члены сообществ проявляют склонность к коллективизму не потому, что они так беспокоятся о гармонии и стремятся поддержать друг друга, а потому что такое поведение считается нормой или является более выгодным для членов этих коллективов [13]. Возможно, это связано с тем, что коллективисты более чувствительны и движимы чувством стыда, а индивидуалисты – чувством вины [14].
М. Воронов и Дж. Сингер также указывают и на другие исследования, согласно которым японцы не демонстрировали модели поведения, свойственные обществу коллективистов. Ссылаясь на статью, опубликованную еще одной группой ученых в 1998 г., в которой они представили кросс-культурные различия жителей Кореи, России, США и Японии по стратегиям менеджмента и эмоциональной реакции [15], Воронов и Сингер отмечают, что из всех представителей, принявших участие в исследовании, японцы продемонстрировали наименьшую склонность к коллективизму. Интересно, что у корейцев и россиян был наивысший показатель коллективистских моделей поведения.
Безусловно, любая классификация учитывает средний показатель. В связи с этим искажения неизбежны. Тем не менее, результаты, представленные одним ученым или группой исследователей, как правило, подвергаются дальнейшей апробации другими учеными.
Глубокий анализ признаков И/К и соответствующих им социальных моделей был представлен в книге американского ученого греческого происхождения, специалиста в области кросс-культурной психологии Г. Триандиса (Harry Triandis) Individualism & Collectivism (1995). Он подчеркивает, что к этой классификации нужно относиться крайне осторожно и с привлечением дополнительной информации, иначе при ее неаккуратном и повсеместном применении она может даже стать опасной как человек с молотком, который использует этот инструмент в любой ситуации [16]. Психолог отмечает, что нет исключительно обществ индивидуалистов или коллективистов. Эти социальные модели проявляются в ситуациях, которые зачастую уникальны по своей сути. Некоторые, общаясь с себе подобными (например, в профессиональном контексте), становятся индивидуалистами, но дома в семье проявляют качества коллективизма. Однако данная модель анализа все равно может помочь выявить наиболее типич-- 173 - ные черты, которые проявляются в культурных контекстах [17]. Соотношение качеств И/К меняется в человеке на протяжении жизни – так, молодежь более индивидуалистична, чем старшее поколение; в более обеспеченных и/или высоко образованных людях ярче проявляется индивидуализм; территории с большей плотностью населения ярче демонстрируют характеристики коллективизма, так как людям, живущим в таких местах, нужны правила, которые помогают избегать конфликтов и т.д. [18, p. 58].
В 1950-х гг. исследования И/К расширились, одновременно показывая, что данная социальная модель может служить при правильном использовании надежным инструментом измерения культурных особенностей поведения в обществе. Исследования установили связь между этими социальными моделями и поведением в деловой среде [19], выбором профессии и профессиональными ценностями [20], распределением денежного вознаграждения [21], инвестиционным поведением [22] и, конечно, образованием [23; 24] и т.д. Все эти труды посвящены различным сторонам функционирования общества, зачастую написаны коллективами ученых из разных культур (например, проявления И/К в деловой среде были исследованы 18 учеными из 16 стран [25]), но они объединены подходом, в основе которого лежит выявление атрибутов И/К.
Именно поэтому мы использовали качества, свойственные И/К, для составления анкеты, на вопросы которой ответили студенты-лингвисты 2–5 курсов. Предварительно мы провели первый этап опроса со студентами языкового факультета, которые приняли участие в программах академической мобильности [26]. Из ответов студентов можно понять, что больше всего им понравилась их независимость и то, что в зарубежном вузе к ним относились как к самостоятельным, способным принимать решения и нести за них ответственность людям. Среди недостатков студенты отметили низкий контроль зарубежными преподавателями за их успеваемостью, а также отсутствие таких реалий российской сферы образования, как список вопросов, помогающий подготовиться к экзаменам, и, самое главное, – самоэкзамены, которые зачастую получают студенты за прилежную работу в течение семестра. В ответах некоторых студентов отмечен и слишком большой акцент на самостоятельной, внеклассной работе, к которой они не привыкли и которым нужно, как указывала одна из участниц опроса (Анастасия): «Разжевать, да в рот положить, а потом еще не раз проверить, как оно там все усвоилось». Алексей, принявший участие в опросе, также считает, что «один из отрицательных моментов – отдаленность преподавателей от студентов. Считается, что обратиться к преподавателю можно лишь в крайнем случае, общение сведено до минимума».
Во втором этапе исследования приняли участие 56 студентов: студенты второго курса (бакалавры) (34 чел.), студенты 3 курса (бакалавры) (10 человек), студенты, обучающиеся на выпускном курсе, на 4 (бакалавры) и 5 (специалисты) (12 чел.). Студенты получили анкеты, в которых они должны были ответить на 10 вопросов: 8 вопросов с представленными вариантами ответов и 2 вопроса, требующих развернутых ответов (студенты описывали то, что им больше всего не / нравится в обучении). Опросный лист был составлен с опорой на исследования, учитывающие культурноспецифичные ценности [27], качества, демонстрирующие проявление этих ценностей [28], а также особенности проявления И/К в обществе [29; 30; 31].
Так, например, саморазвитие, финансовая стабильность и независимость – характеристики, более ярко проявляющиеся в обществах индивидуалистов [32], а стремление к уважению в обществе, порадовать близких и семью – признаки, активно проявляющиеся в коллективе [33]. Один из вопросов предлагал студентам выбрать, какая форма взаимоотношений с преподавателями им кажется уместной в вузе. Варианты ответов: 1) ожидаю исключительно формальные отношения, хорошее владение материалом предмета, его понятное и интересное изложение; 2) ожидаю психологической поддержки, чтобы преподаватель отслеживал мой прогресс, в случае необходимости, говорил мне, как улучшить результат. Очевидно, что выбор варианта ответа соответствует проявлению в обществе атрибутов индивидуализма, а – коллективизма.
Форма проведения занятий, которая нравится больше всего студентам, тоже может стать показателем признаков И/К. Так, если студенты предпочитают: 1) лекционные занятия, на которых они могут слушать и не принимать участия в дискуссии или 2) семинары, но студента должен вызвать преподаватель, от студента не ожидается инициация ответа – это признаки проявления коллективизма. Если обучающиеся выбирают вариант ответа: 3) семинары, причем я люблю участвовать в дискуссии, выражать свое мнение – это полностью соответствует качествам, проявляемым индивидуалистами. Вариант ответа, указывающий на то, что студенты предпочитают «4) доклады и групповые проекты» может соответствовать и коллективистским, и индивидуалистким проявлениям (например, если студенты сами выбирают тему, форму ее изложения, состав группы и распределяют задание – это проявление качеств индивидуализма).
Результаты опроса показали, что студенты продемонстрировали больше признаков индивидуализма в понимании того, что они ожидают от образовательного процесса. Например, 73,5 % студентов второго курса и 67 % студентов четвертого и пятого курсов указали, что целью их обучения в университете являются именно саморазвитие и самореализация (то есть качества общества индивидуалистов). Большинство студентов третьего курса также указали, что целью их обучения в вузе являются саморазвитие (40 %) и будущая финансовая стабильность (40 %). Таким образом, 80% третьекурсников по данному вопросу предпочли ответы, типичные для обществ индивидуалистов. Незначительное число сту- дентов выбрали модели поведения общества коллективистов (варианты ответа: уважение в обществе и устройство благополучной семейной жизни).
Отвечая на вопросы о том, какую форму проведения занятий студенты предпочитают, что играет самую важную роль при выставлении оценок, а так же на вопрос о том, какие личностные качества они хотели бы развить у себя во время учебы, ребята выбрали варианты, соответствующие моделям поведения индивидуализма. Единственный вопрос, при ответе на который большинство студентов выбрало тот, который оказался типичным для поведения общества коллективистов, – это вопрос об особенностях взаимоотношений между преподавателями и студентами: 70,5 % студентов 2-го курса, 70 % студентов 3-го курса и 83 % студентов 4-го и 5-го курсов ожидают, что преподаватели будут уделять им необходимое внимание, давая советы и помогая улучшить результат.
Второй этап опроса студентов объяснил, почему российские студенты, участвующие в программах академической мобильности, так были рады испытать чувство свободы и независимости, которых, очевидно, им не хватает при обучении дома – современные студенты предпочитают социальные модели поведения индивидуалистов. Однако студенты надеются, что при общении с преподавателями их отношения не будут оставаться формальными и дистантными, хороший студент ожидает особого к себе отношения, что не происходило в академической среде зарубежных вузов, где ко всем студентам предъявлялись равные требования и формы взаимоотношений с преподавателями.
Итак, мы можем сделать вывод о том, что, несмотря на процессы унификации, которые типичны для глобализирующегося мирового сообщества, наши культуры сохраняют свои уникальные черты и интерпретации происходящих событий. Культурно-специфичные процессы присутствуют и в сфере образования: хотя, на первый взгляд, системы образования многих стран мира кажутся схожими, наше понимание того, что представляет собой процесс обучения, как он должен быть организован, значимость роли лиц, вовлеченных в этот процесс, могут сильно отличаться. Это можно понять из ответов студентов, которые приняли участие в программах академической мобильности. Напомним, что в опросе приняли участие способные студенты, хорошо владеющие английским языком и межкультурной компетенцией [34]. Хотя опыт обучения в зарубежной академической среде им понравился, студентам сложно было смириться с тем, насколько их отношения с преподавателями отличались от того, как эти отношения выстраиваются в их родном вузе, какой значимый акцент ставится на самостоятельную работу. Успешные студенты были обескуражены тем, что у них не было никаких поблажек в конце семестра, и они проходили одинаковые экзаменационные испытания со всеми остальными студентами.
Наша исследовательская позиция рассматривает академическую среду как социокультурный феномен со своими уникальными традициями, влияющими на конструирование знаний. Опросный лист, составленный с учетом качеств, свойственных обществам коллективистов и индивидуалистов, позволяет выявить предпочтения студентов определенным моделям поведения. Как оказалось, принявшие участие студенты отдают подавляющее предпочтение индивидуалистским моделям поведения в академической среде: они самостоятельно выбрали факультет, на котором обучатся; целью их обучения, как было уже отмечено выше, является саморазвитие и самореализация и финансовая стабильность; после обучения в университете учащиеся надеются в будущем найти интересную работу; им нравится участвовать в дискуссиях на занятиях, высказывать свое мнение; они думают, что участие в дискуссиях должно стать основным критерием при выставлении финальной оценки по предмету. Наконец, за период обучения студенты хотят овладеть следующими личностными качествами: хорошими коммуникативными навыками, которые им позволят находить общий язык в любой ситуации (60 % для студентов третьего курса!), а также научиться так планировать свой день, чтобы успевать как можно больше за день. Единственный признак коллективизма – желание студентов видеть заинтересованных в их прогрессе преподавателей. Результаты анализа ответов студентов позволяют понять, почему российским студентам было сложно адаптироваться к некоторым особенностям академической среды, с которыми они столкнулись во время обучения за рубежом.
Безусловно, в будущем было бы интересно привлечь к исследованию студентов неязыковых факультетов (например, экономического) и узнать, с какими трудностями они столкнулись, обучаясь в зарубежном вузе.
Как нам кажется, опора на исследования в области И/К позволит выявить культурноспецифичные особенности учащихся, которые могут меняться у различных поколений, спрогнозировать сложности, ожидающие российских студентов в зарубежном вузе, и составить краткий интенсивный курс, готовящий участников программ академической мобильности к обучению в инокультурной среде.
Ссылки:
-
1. Triandis H.C. Individualism & Collectivism. Oxford, 1985.
-
2. Hofstede G., Hofstede G.J. Cultures and Organization. McGraw Hill, 2005.
-
3. Schwarz Sh. Universals in the content and structure of values: theoretical advances and empirical tests in 20 countries //
Advances in Experimental Social Psychology. San Diego, 1992. № 25. P. 1–62.
-
4. Basabe N., Ros M. Cultural dimensions and social behavior correlates: Individualism-Collectivism and Power Distance // Revue Internationale de Psychologie Sociale. Presses Universitaires de Grenoble, 2005. № 18 (1). P. 189–225.
-
5. Hofstede G. Culture’s Consequences. Thousand Oaks, 2001.
-
6. Inglehart R. Culture shift in advanced industrial society. Princeton, 1991.
-
7. Smith P.B., Dugan S., Trompenaars F. National culture and managerial values: A dimensional analysis across 43 nations // Journal of Cross-Cultural Psychology. 1996. № 27. P. 231–264.
-
8. Basabe N., Ros M. Op. cit. P. 199.
-
9. Konsky C., Eguchi M., Blue J., Kapoor S. Individualist-Collectivist Values: American, Indian and Japanese Cross-Cultural
Study // Intercultural Communication Studies. 2002. № 9. P. 69–83.
-
10. Oyserman D., Lee S.W.S. Does Culture Influence What and How We Think? Effects of Priming Individualism and Collectivism // Psychological Bulletin, 2008. № 134 (2). P. 311–342.
-
11. Ibid. P. 325.
-
12. Voronov M., Singer A.J. The Myth of Individualism – Collectivism: A Critical Review // The Journal of Social Psychology. 2002. № 142 (4). P. 461–480.
-
13. Yamagishi T. Exit from the group as an individualistic solution to the free rider problem in the United States and Japan // Journal of Experimental Social Psychology. 1988. № 24. P. 530–542.
-
14. Triandis H.C. Op. cit. P. 32.
-
15. Matsumoto D., Takeuchi S., Andayani S., Kouznetsova N., Krupp D. The contribution of individualism vs. collectivism to cross-national differences in display rules // Asian Journal of Social Psychology. 1998. № 1. P. 147–165.
-
16. Triandis H.C. Op. cit. P. 2.
-
17. Ibid. P. 27.
-
18. Ibid. P. 58.
-
19. Smith P.B., Torres C.V., Hecke J., Chua C.H., Chudzikova A., Degirmencioglu S., Donoso-Maluf F., Feng N.C.Y., Harb C., Jackson B., Malvezzi S., Mogaji A., Pastor J.C., Perez-Floriano L., Srivastava B.N., Stahl G., Thomason S., Yanchuk V. Individualism-collectivism and business context as predictors of behaviors in cross-national work settings: Incidence and outcomes // International Journal of Intercultural Relations. 2011. № 35. P. 440–451.
-
20. Hartung P.J., Fouad N.A., Leong F.T.L., Hardin E.E. Individualism-Collectivism: Links to Occupational Plans and Work Values // Journal of Career Assessment. 2010. P. 18–34.
-
21. Fischer R., Smith P.B. Reward allocation and Culture: A Meta-Analysis // Journal of Cross-Cultural Psychology. 2003. № 34 (3). P. 251–268.
-
22. Power D., Schoenherr T., Samson D. The cultural characteristic of individualism/collectivism: A comparative study of implications for investment in operations between emerging Asian and industrialized Western countries // Journal of Operations Management. 2010. № 28. P. 206–222.
-
23. Khoutyz I. Multicultural Perspectives in Academic Communication: Academic Mobility and Teaching Practices // Proceedings of ICERI2013 Conference 18th-20th November 2013. Seville, 2013. P. 6150–6160.
-
24. Realo A., Allik J. Across-cultural study of collectivism: A comparison of American, Estonian and Russian students // Journal of Social Psychology. 1999. № 139. P. 133–142.
-
25. Smith P.B., Torres C.V., Hecke J., Chua C.H., Chudzikova A., Degirmencioglu S., Donoso-Maluf F., Feng N.C.Y., Harb C., Jackson B., Malvezzi S., Mogaji A., Pastor J.C., Perez-Floriano L., Srivastava B.N., Stahl G., Thomason S., Yanchuk V. Op. cit.
-
26. Хутыз И.П. Межкультурные вопросы процессов академической мобильности // Теория и практика общественного развития. 2013. № 7. С. 65–68.
-
27. Schwarz Sh. Op. cit.
-
28. Konsky C., Eguchi M., Blue J., Kapoor S. Op. cit.
-
29. Triandis H.C. Op. cit.
-
30. Hofstede G., Hofstede G.J. Op. cit.
-
31. Basabe N., Ros M. Op. cit.
-
32. Triandis H.C. Op. cit.
-
33. Hofstede G., Hofstede G.J. Op. cit.
-
34. Хутыз И.П. Указ. соч.