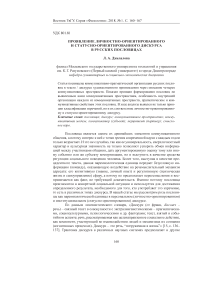Проявление личностно-ориентированного и статусно-ориентированного дискурса в русских пословицах
Автор: Джелалова Лариса Анатольевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Материалы и сообщения. Проблемы преподавания
Статья в выпуске: 1, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена коммуникативно-прагматической организации русских пословиц в тексте / дискурсе художественного произведения через описание четырех коммуникативных пространств. Показан принцип формирования пословиц по выявленным нами коммуникативным пространствам, особенность внутренней организации каждого из коммуникативных пространств, прагматические и коммуникативные свойствам этих пословиц. В ходе анализа выявлен не только принцип классификации изречений, но и их соответствие личностно-ориентированному и статусно-ориентированному дискурсу.
Пословица, дискурс, коммуникативное пространство, коммуникативная модель, коммуникатор (субъект), перципиент (партнер), смысловое ядро
Короткий адрес: https://sciup.org/146278386
IDR: 146278386 | УДК: 801.81
Текст научной статьи Проявление личностно-ориентированного и статусно-ориентированного дискурса в русских пословицах
Пословица является одним из древнейших элементов коммуникативного общения, а потому интерес к ней с точки зрения современной науки с каждым годом только возрастает. И это не случайно, так как ее универсальность, сверхличностный характер и культурная значимость не только позволяют ускорить обмен информацией между участниками общения, дать аргументированную оценку тому или иному событию или же субъекту коммуникации, но и выступить в качестве средства регуляции социального поведения человека. Более того, выступая в качестве прецедентного текста, данная паремиологическая единица передает безусловную информацию (команду), оказывающую воздействие на речемыслительный механизм адресата: его когнитивную (знание, личный опыт) и регулятивную (психическая жизнь и самоуправление) сферу, а потому не предполагает переосмысления и воспринимается как факт, не требующий доказательств. Именно поэтому пословица произносится в конкретной социальной ситуации и используется для достижения определенного результата, необходимого для того, кто употребляет это изречение, то есть в различных типах дискурса. В нашей статье мы рассмотрим роль пословицы как паремиологической единицы в персональном (личностно-ориентированном) и институциональном (статусно-ориентированном) дискурсе.
По данным лингвистического словаря, «Дискурс (от франц. discours – речь) – связный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах). Дискурс – это речь, “погруженная в жизнь”» [15, с. 136– 137]. Трактовка дискурса в различных научных системах предполагает и другие определения, благодаря которым, как утверждают ученые, само понятие «дискурс» стало шире понятия «язык». С точки зрения прагмалингвистического подхода [11; 9; 12; 8], дискурс рассматривается как явление промежуточного порядка между речью, общением и языковым поведением, с одной стороны, и фиксированным текстом, остающимся в «сухом остатке» общения, с другой стороны [8; 9; 11; 12]. Сторонники интерпретативного подхода под дискурсом понимают смысловое развертывание некоторого опорного концепта, в результате которого создается общий контекст [3]. Ю. В. Степанов, рассматривая дискурс с позиции идеологического подхода, под этим многогранным явлением понимает «язык в языке», представленный в виде особой социальной данности [13]. В. Е. Чернявская (генеративно-тематический подход) под дискурсом понимает и «конкретное коммуникативное событие, привязанное к определенным прагматическим, ментальным условиям порождения и восприятия сообщения и определенным моделям текстопорождения – типам текста», и «совокупность тематически соотнесенных текстов» [14]. Мы будем придерживаться прагмалингвистического подхода в исследовании русских пословиц в тексте художественного произведения. Отметим, что под текстом мы понимаем материальное воплощение дискурса.
С точки зрения нашего исследования, под дискурсом мы будем понимать процесс вербального общения, включенного в каноническую письменную речь. Отсюда внимание к коммуникативной модели и ее реализации через исследуемый текст становится очевидным. Согласно нашему исследованию, понимание глубинного смысла текста будет происходить, во-первых, через внедренную автором в контекст произведения пословицу. Во-вторых, через декодирование передаваемой ситуации посредством паремиологического изречения, равного по значению исследуемой в тексте коммуникативной модели, но не включенного в контекст исследуемого отрывка.
Такое понимание дискурса позволит нам изучать пословицу «от смысла к значению» с учетом ее специфической природы: рассматривая данное изречение как сложное образование, несущее значение формулы, правила и используемое как цитата. С этой точки зрения пословица не только облегчит способ аргументации говорящего выраженной им мысли, но и позволит правильно оценить коммуникативный замысел автора в описываемой им ситуации.
Как показывают результаты нашего исследования, окончательное значение пословицы должно формироваться с учетом смысловой организации ключевых элементов внутри изречения, внедренного в текст, что предполагает комплексный анализ когнитивного, концептуального и коммуникативного пространства пословиц. Нами установлено, что исследование когнитивного плана направлено на изучение структуры пословицы (когнитивная составляющая): определения смыслового ядра (инвариантной пары), представленного словом (фразой и фразеобразованием), взаимоотношение компонентов которого формируют классы и группы пословиц, а также способствуют определению смысловых границы изречения, его первичного значения и принципа построения пословицы (классическая и неклассическая логика) [4; 5]. Концептуальное пространство направлено на изучение семантики пословицы (концептуальная составляющая): исследование каждого компонента смыслового ядра (инвариантной пары) и окончательное формирование значения пословицы и границ возможного ее применения: когда, где и при каких обстоятельствах можно использовать то или иное изречение (группу изречений) [6; 7]. Исследование коммуникативного плана направлено на изучение коммуникации и прагматики (коммуникативная составляющая): формирование коммуникативных моделей, выявление прагматических свойств изречений, относящихся к каждой конкретной группе, сфера их применения.
Согласно исследованию коммуникативного плана, выявленные нами коммуникативные модели включают пять взаимодействующих друг с другом элементов: 1) коммуникатор, или субъект общения (А); 2) перципиент, или партнер (В); 3) материал, или средство общения (Y) ; в нашем случае это пословица ; 4) значение (Х) – предмет или тема общения; 5) (« > », «=/ ≠ ») степень коммуникативного намерения.
Коммуникатор, или субъект общения передает информацию и, как показывает исследование, является основным действующим лицом коммуникативного процесса. Ему во многом известен мотив общения, обозначен результат, то есть конечная цель общения, продуманы методы и способы достижения предполагаемого результата. Перципиент, или партнер – лицо, во многом принимающее информацию. Он вовлечен в смысловое пространство субъекта, а потому все его действия чаще всего второстепенны и во многом зависят от четкого понимания сложившейся ситуации в процессе общения и, что немаловажно, умения предугадать конечный результат. Отметим, что в качестве партнера может выступать не одно лицо, а несколько объединенных одним коммуникативным намерением, с одной стороны, и способным кардинально изменить ситуацию с пользой для себя, с другой стороны. Материалом, или средством общения , с помощью которого до партнера доносится какое-то смысловое содержание, будут пословицы в тексте художественного произведения, используемые для реализации определенной коммуникативной тактики и стратегии. Значение (предмет или тема общения) включает предполагаемые границы общения и напрямую зависит от ситуации. Под степенью коммуникативного намерения мы будем понимать вероятностный прогноз предполагаемого исхода событий, определяющий коммуникативное намерение участников общения: выбор коммуникативной стратегии с целью получения желаемого результата или его кардинального изменения.
Анализ показал, что при выборе коммуникативной стратегии (получении желаемого результата) каждый из участников общения должен подвести собеседника к цели общения, которая лежит в основе коммуникативного намерения. Таких намерений у нас получилось четыре:
-
а) только субъекта общения (исход коммуникативной ситуации зависит от субъекта общения), что соответствует абстрактной модели-формуле первого коммуникативного пространства: 1) [AА – это субъект общения, В – партнер (партнеры), а «<» степень коммуникативного намерения участников общения;
-
б) только партнера (исход коммуникативной ситуации изначально не может быть предопределен и зависит от «второстепенного» лица), что соответствует абстрактной модели-формуле второго коммуникативного пространства: [A>B] , где А -это субъект общения, В – партнер (партнеры), а « > » степень коммуникативного намерения участников общения ;
-
в) субъекта общения и партнера одновременно (исход коммуникативной ситуации зависит от всех участников общения), что соответствует абстрактной модели-формуле третьего коммуникативного пространства: [A = B], где А – это субъект общения, В – партнер (партнеры), а «=» степень коммуникативного намерения участников общения ;
-
г) (крайне редко) ни того, ни другого собеседника (исход коммуникативной ситуации может зависеть и от третьего лица, не вовлеченного в процесс общения), что соответствует абстрактной модели-формуле четвертого коммуникативного про-
- странства: [A≠B], где А – это субъект общения, В – партнер (партнеры), а «≠» степень коммуникативного намерения участников общения.
Нами установлено, что каждое коммуникативное пространство предполагает и свой, во многом отличающийся друг от друга, прагматический план. Так, материалом первого коммуникативного пространства [AИзречения-описания: Жена красавица – безочному (слепому) радость. И хорошая аптека убавит века; информирования или утверждения: Не душою худ, просто плут. Что мне злато, светило бы солнышко. Изречения-обещания: Дай мне, Боже, ума, а уж я не подведу; мольбы: Дай-то, Боже, чтоб все было гоже!; оценивания: Кто богат, тот мне и брат. Свинья мне не брат, а пять рублей не деньги. Изречения, отражающие причинно-следственные отношения: констатация факта реальной действительности или факт/данность: На что мне богатого, подавай тороватого; советы-упреждения: Охти мне, товарищи в тюрьме, что-то будет мне?; советы-пожелания: Забудь ты мое добро да не делай мне худо [2].
Анализ показал, что участники общения первого коммуникативного пространства, как правило, хорошо знакомые люди, а потому им свойственен особый, максимально сжатый способ общения, понятный только «включенным в ситуацию». Коммуникативная ситуация очевидна, поэтому актуальной является лишь оценочно-моральная, эмоциональная классификация происходящего, что соответствует личностно-ориентированному дискурсу. Нами также установлено, что поведенческая реакция субъекта коммуникации, предполагающего получение положительного результата в процессе общения, может быть куртуазной, путем выражения эмоциональной обиды, рациональной – здравомыслие и ирония, и в редких случаях инвективной, предполагающей прямую вербальную агрессию.
Например, в произведении Д.И. Фонвизина «Недоросль» реализация пословиц Льстец под словами – змей под цветами; Лесть без зубов, а с костьми съест; Лихва да лесть дьяволу в честь; Не поддавайся на пчелкин медок; у нее жальце в запасе и т. д. может происходить в смысловых границах оценочно-моральной классификации событий при рациональной поведенческой реакции субъекта коммуникации (Стародума): Льстец есть тварь, которая не только о других, ниже о себе хорошего мнения не имеет. Все его стремление к тому, чтоб сперва ослепить ум у человека, а потом делать из него, что ему надобно . Он ночной вор, который сперва свечу погасит, а потом красть станет … » [10, с. 222–223].
Материалом второго коммуникативного пространства [A>B], отражающего потребность получить желаемый результат только партнером, могут быть пословицы, содержащие следующие прагматические типы: изречения-вопросы (чаще всего в приветствиях): Что не ешь? Аль крестить звали? Каково вас господь перевертывает? На добром слове кому не спасибо? Доброе словечко в жемчуге; просьбы: Спрячь, Боже, так, чтобы черт не нашел; обращения: У меня, брат, уже давненько темечко окрепло; объяснения: Хорошо тому добро делать, кто помнит. Изречения-приказы: Расплетайся, трубчата коса, рассыпайтесь, русы волосы! Что поставят, то и кушай, а хозяина в доме слушай! Пиво вари да гостей зови! Полно мать врать – дай жене – бароне сказать; угрозы: Кто в пяток перед Ильиным днем постится, вечныя муки избавлен будет; обвинения: Не дал шапки отец, так пусть уши мерзнут; отрицания: Он не плут, не картежник, а ночной подорожник; даже проклятья: По ком этот вздох, тот бы в щепку иссох! Поцелуйся с ним. Угори ты с ним. Будь он неладен! Советы-упреждения: Вола в гости зовут не мед пить, воду возить. Не ставь недруга овцою, ставь его волком; предложения: Дай грош, да пусти поросенка в рожь – будешь хорош. Не гонись за простым вором, а лови атамана; а также изречения, отражающие причинно-следственные отношения, предполагающие конечный результат: Бойся не бойся, без року смерти не будет (результат любой человеческой жизни все равно смерть). Корми деда на печи: сам будешь там (по заботе и результат). Пусть бы не любили, только бы боялись (конечный результат – подчинение любым способом) [2].
Анализ показал, что один из участников общения, в данном случае партнер, если ему позволяет социальный статус, не только оказывает влияние на степень коммуникативного намерения, но и вносит изменение в социальный статус субъекта общения или присваивает какому-либо объекту имя, а потому внутренняя организация второго коммуникативного пространства может соответствовать статусно-ориентированному дискурсу. Данный дискурс предполагает диалог между представителями той или иной социальной группы, представителями разных социальных групп между собой, а также отдельных личностей, реализующих свои статусно-ролевые возможности в рамках сложившихся общественных институтов. Отсюда поведенческая реакция субъектов коммуникации может представлять прямую вербальную агрессию, а также отражать здравый смысл в прямом или переносном значении или же тяготеть только к этикетности, в переносном значении – к иронии.
Например, реализация пословиц Всякий женись на своей невесте ; Всякая невеста для своего жениха родится; Смерть да жена – Богом суждена, а также Суженого конем не объедешь ; Не расплетайте косы до вечерней росы: суженый придет, сам расплетет и т. д. в произведении Д. И. Фонвизина «Недоросль» может происходить при рациональной поведенческой реакции субъектов коммуникации через диалог представителей разных социальных групп между собой (Правдин – Софья – Милон – Скотинин). Каждый из них реализует свои статусно-ролевые возможности в рамках сложившихся ситуаций общения. Поведенческая реакция субъектов коммуникации может представлять: а) прямую вербальную агрессию – Милон : Я насилу могу удержаться! ; б) тяготеть к иронии – 1) Правдин: Мне самому кажется, господин Скотинин, что сестрица ваша помышляет о свадьбе, только не о вашей ; 2) Софья: Неужели суждено мне быть вашою женою?; и отражать в этой ироничной ситуации «здравый смысл» – Скотинин : 1) Всякий женись на своей невесте . Я чужу не трону, и мою чужой не тронь же. (Софье.) Ты не бось, душенька. Тебя у меня никто не перебьет; 2) Суженого конем не объедешь, душенька! Тебе на свое счастье грех пенять. Ты будешь жить со мною припеваючи. Десять тысяч твоего доходу! Эко счастье привалило; да я столько отродясь и не видывал [10, с. 183].
Третье коммуникативное пространство [A=B], основанное на намерении получить желаемый результат субъектом коммуникации и партнером одновременно, предполагает, как нам видится, использование пословиц, побуждающих одного или каждого из участников коммуникативного намерения к действию. Как показывает исследование, материалом данного коммуникативного пространства могут быть изречения-приказы: Режь да ешь, ломай да и нам давай!; распоряжения: Нет отца, так зови по матери; запрещения: Другу не дружи, а недругу не мсти; предостережения: Барский гнев да барская милость равно опасны; выражения-описания или утверждения: Ты барин, да и я не татарин; Детинка с сединкой везде хорош; Поп да петух и не пивши поют; Нет перед Богом праведников, все грешные; Оттерпим-ся – и мы люди будем. И туда, и сюда, как попова дуга. Изречения-просьбы: Не дай Бог и злому татарину. Не дай бог ни вам, ни нам!; предложения: Где нам, тут дай Бог и вам; обещания: И сам не стану, и другу, и недругу закажу. Изречения, констатирующие факты реальной действительности или факт/данность: Невесте везде почет. Невеста без места, жених без куста (о бедной свадьбе). Алмаз алмазом режется, а плут плутом губится. И нашим, и вашим – всегда спляшем [2].
Нами установлено, что внутренняя организация третьего коммуникативного пространства может соответствовать двум исследуемым нами дискурсам одновременно. Личностной характеристикой субъектов коммуникации может быть поведенческая реакция, не предполагающая прямую вербальную агрессию, а отражающая здравый смысл и даже иронию между представителями той или иной социальной группы, стремящихся реализовать свои статусно-ролевые возможности.
Например, реализация пословиц Дядя Иван – и людям, и нам; И нашим, и вашим – всегда спляшем; И туда, и сюда, как попова дуга и т. д., равных по значению реплике субъекта коммуникации Чацкого, которая происходит в смысловых границах оценочно-моральной классификации событий при рациональной поведенческой реакции субъекта: « Чацкий (Софье): Сказать вам, что я думал? Вот: // Старушки все – народ сердитый; // Не худо, чтоб при них услужник знаменитый // Тут был , как громовой отвод . // Молчалин! – Кто другой так мирно всё уладит! // Там моську вовремя погладит, // Тут в пору карточку вотрёт, // В нём Загорецкий не умрёт! // Вы давиче его мне исчисляли свойства, // Но многие забыли? – да?» [1, с. 91].
В последнем, четвертом коммуникативном пространстве [A≠B], в котором намерение участников общения не приводит ни одного из них к желаемому результату, могут быть использованы пословицы с такими прагматическими типами, как изречения-вопросы: Как так муж дьяк, а жена поподья?; угрозы, приказы и советы: Не выноси сор из избы, а в уголок копи; Зажми рот да не говори год; Не говори всегда, что знаешь, а знай, что говоришь; запрещения: Где двое, там третьему засть; Между двух не становись; Среди двоих третий всегда лишний; отрицания : Не нужны нам праведники, а нужны угодники; изречения-утверждения: Друзей-то много, а друга нет; Старый стареет, а молодой не молодеет; Невеста не жена – можно разневестица; обвинения : Жена мужа любила, в тюрьме место купила; Седой мужик обрился, а в детки не сгодился; Работает как ребенок, а ест как детина ; даже проклятья : Чтоб твой двор заглох, и крыльцо травой поросло, и никто бы к нему дороги не торил! Ни питьем отпиться, ни едой отъесться, ни сном отоспаться, ни в чистом поле разгуляться, ни с отцом с матерью, с добрым дружком разговориться [2] . Иными словами, все то, что приводит только к конфликту интересов, лишая участников общения компромисса. Нами установлено, что внутренняя организация четвертого коммуникативного пространства с учетом ситуации общения, индивидуальных, социальных, национально-культурных и т. д. особенностей поведения партнеров по общению может также соответствовать двум заявленным в статье дискурсам.
Анализ показал, что, в отличие от предыдущего коммуникативного пространства, личностные характеристики участников коммуникации будут отличаться большей экспрессией, а потому в основу отношений, ведущих к конфликту, будет прежде всего положена либо прямая вербальная агрессия, либо эмоциональная обида. Более того, учитывая процедуру общения, мы исключаем рациональное зерно, то есть здравый смысл и тем более иронию, а в иных ситуациях и этикетность.
Например, произведение Д. И. Фонвизина «Бригадир». Реализация пословиц Зажми рот да не говори год; Не говори всегда, что знаешь, а знай, что говоришь; Лишнее слово в досаду вводит; Длинный язык с умом не в родне; Не выноси сор из избы, а в уголок копи , равных по значению коммуникативной ситуации, происходит при прямой вербальной агрессии партнера (Бригадира), направленной на субъект коммуникации (Бригадиршу): «Бригадирша: О, Иванушка! Бог милостив.
Вы, конечно, станете жить лучше нашего. Ты, слава богу, в военной службе не служил, и жена твоя не будет ни таскаться по походам без жалованья, ни отвечать дома за то, чем в строю мужа раздразнили. Мой Игнатий Андреевич вымещал на мне вину каждого рядового . Бригадир : Жена, не все ври, что знаешь» [10, с. 124]. Степень коммуникативного намерения отражена в реплике Бригадира, смысл которой в полном объеме может быть реализован в заявленных нами пословицах.
Реализация пословиц Где двое, там третьему засть; Среди двоих третий всегда лишний; Между двух не становятся и т. д. через контекст произведения А.С. Грибоедова «Горе от ума» может происходить в смысловых границах оценочно-моральной классификации событий при куртуазной поведенческой реакции субъекта коммуникации Лизы на оказанные знаки внимания Молчалина: « Молча-лин: Весёлое созданье ты! живое! Лиза : Прошу пустить, и без меня вас двое » [1, с. 60]. Степень коммуникативного намерения отражена в реплике Лизы и равна по значению указанным выше пословицам.
Представленный в статье материал позволяет нам сделать следующий вывод. Исследование пословиц в данном ключе обеспечивает точность и недвусмысленность анализируемого фрагмента, способствует пониманию изречения через данный фрагмент, а также придает определенное субъективное значение и конкретной ситуации, и предполагаемому результату. В этом случае пословица используется как конструктивная единица, как средство, в которое говорящий вкладывает информацию о своем коммуникативном намерении, придавая высказыванию определенное субъективное значение с целью осуществления прогнозируемого результата, а также как смысловое ядро, наиболее точно раскрывающее истинный смысл отражаемой в тексте ситуации.
Такой подход, как нам видится, будет способствовать осознанию единства выражения и текста, что приводит к пониманию глубинного смысла и произведения, и изречения в целом.
The article is devoted of the communicative and pragmatic organization of Russian proverbs in a text / discourse of the work of art, through the description of four communicative spaces. The principle of proverbs’ formation in accordance with the structure of the identified communication spaces is shown, together with the peculiarity of the internal organization of each of the communication spaces, and the pragmatic and communicative properties of these proverbs . In the course of the analysis, the author revealed not only the principle of the proverbs’ classification, but also their correspondence to person-oriented and status-oriented discourses.
Список литературы Проявление личностно-ориентированного и статусно-ориентированного дискурса в русских пословицах
- Грибоедов А. С. Горе от ума. М.: Технологическая Школа Бизнеса, 1995. 135с.
- Демьянков В. З. Лингвистическая интерпретация текста: универсальные и национальные (идиоэтнические) стратегии//Язык и культура: Факты и ценности. М.: Языки славянской культуры, 2001. С. 309-323.
- Джелалова Л. А. Организация и исследование когнитивного пространства тематической группы «Человек»//Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2013. № 1 (23). С. 174-178.
- Джелалова Л. А. Принцип объединения паремий (пословиц и поговорок) в формообразующие классы по методу Г. Л. Пермякова//Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2013. № 2. С. 155-168.
- Джелалова Л. А. Образная составляющая как этнический компонент паремий тематической группы «человек»//Известия Тульского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2013. № 3. С. 264-273.
- Джелалова Л. А. Образ человека в когнитивном пространстве русских паремий (опыт исследования)//Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2015. № 2 (34). С. 103-110.
- Карасик В. И. О типах дискурса//Языковая личность: институциональный и персональный дискурс: сб. науч. тр. Волгоград: Перемена, 2002. С. 5-20.
- Кубрякова Е. С. Словообразование//Общее языкознание. Внутренняя структура языка. М., 1972.
- Русская поэзия и проза XVIII-XIX веков. Самара: Самар. Дом печати, 1996. 568 с.
- Седов К. Ф. Становление дискурсивного мышления языковой личности: Психои социолингвистические аспекты. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 179 с.
- Слышкин Г. Г. Аксиология языковой личности и сфера наивной лингвистики//Социальная власть языка: сб. науч. тр. Воронеж, 2000. С. 87-90.
- Степанов Ю. С. Альтернативный мир. Дискурс. Факт и принцип Причинности//Язык и наука конца 20 века: Сб. ст. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 1995. С. 35-73.
- Чернявская В. Е. Дискурс как объект лингвистических исследований//Текст и дискурс. Проблемы экономического дискурса: Сб. науч. тр. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов, 2001. С. 11-22.
- Ярцева В. Н. Лингвистический энциклопедический словарь/Гл. ред. В. Н. Ярцева. М.: Сов. энциклопедия, 1990. 682 с.
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: Рус. яз., 2007.