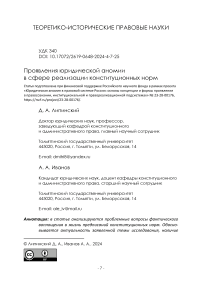Проявления юридической аномии в сфере реализации конституционных норм
Автор: Липинский Д.А., Иванов А.А.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Теоретико-исторические правовые науки
Статья в выпуске: 4, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются проблемные вопросы фактического воплощения в жизнь предписаний конституционных норм. Обосновывается актуальность заявленной темы исследования, наличие существенных расхождений между фактической и юридической конституциями в Российской Федерации. Отмечено, что Конституция РФ 1993 года изначально рассматривалась как переходный документ, призванный подготовить общество к восприятию новых социальных реалий. И в этом качестве она уже практически выполнила свои задачи. Авторами критически оценивается применимость модели «живой конституции» в рамках общего совершенствования основ конституционного строя Российского государства. Указывается, что поправка к Конституции 2020 года, определившая новые принципы функционирования публичной власти, усилила противоречие как между отдельными положениями в сфере реализации конституционных норм, так и между духом и буквой Основного закона в целом. Коллизии между конституционными нормами определили возникновение в сфере конституционного правоприменения юридической аномии. Конституционная аномия рассматривается в качестве одной из ее составляющих. Предложены практические рекомендации по повышению эффективности действия отечественной Конституции, сделан вывод о необходимости продолжения соответствующего конституционного реформирования.
«живая конституция», коллизии, конституционная норма, пробелы, фактическая конституция, юридическая аномия
Короткий адрес: https://sciup.org/147246134
IDR: 147246134 | УДК: 340 | DOI: 10.17072/2619-0648-2024-4-7-25
Текст научной статьи Проявления юридической аномии в сфере реализации конституционных норм
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках проекта «Юридическая аномия в правовой системе России: основы концепции и формы проявления в правосознании, институциональной и правореализационной подсистемах» № 23-28-00176,
The article was prepared with the financial support of the Russian Science Foundation within the framework of the project “Legal anomie in the Russian legal system: fundamentals of the concept and forms of manifestation in legal consciousness, institutional and legal realization subsystems” No. 23-28-00176,
В середине 80-х – начале 90-х годов XX века значительная часть российского общества испытывала воодушевление, граничившее с экзальтацией. Многим казалось, что многочисленные социально-экономические проблемы, накопленные советским государством, будут успешно разрешены посредством принятия ряда политических решений и соответствующих законов. Представлялось, что для этого необходима ориентация на западные ценности, восприятие разработанных там идей и конструкций, в том числе юридических. К их числу относили, например, систему разделения властей, правовое государство и гражданское общество, отсутствие государственной идеологии, приоритет прав человека. Представлялось, что соответствующие конституционные институты, во-первых, смогут в кратчайшие сроки укорениться в советском обществе, а во-вторых, сами по себе принесут ему богатство и процветание. (С позиций сегодняшнего дня мы можем с уверенностью судить об идеализме и политической наивности, свойственных не только рядовым советским гражданам, но и многим государственным деятелям.) Между тем за произведенными изменениями последовала череда социальных
ЛИПИНСКИЙ Д. А., ИВАНОВ А. А . ________________________________________________ кризисов и рост преступности, которые в духе марксистских взглядов на сущность государственно-правовых процессов объяснялись процессами в экономике и ее общей неготовностью функционировать в условиях рынка. Думается, однако, что не только экономика, но и процессы юридического реформирования и конституционного строительства, а также их преломление в сознании человека имеют собственные закономерности, носящие вполне объективный характер. Для рассмотрения таких закономерностей мы, в частности, можем использовать категориальный аппарат социологии, применив к правовым по сути явлениям понятие аномии, первоначально разработанное Э. Дюркгеймом и Р. Мертоном.
Гипотеза исследования заключается в том, что существующие в обществе различные аномичные проявления, в том числе у законодателя, провоцируют его на внесение в текст Основного закона изменений, не соответствующих особенностям сформировавшейся в государстве правовой культуры. Попытка практической реализации соответствующих конституционных положений лишь усиливает существующую юридическую аномию, что ставит вопрос о необходимости внесения новых изменений в текст Конституции России.
На современных процессах конституционного строительства в Российской Федерации могло отразиться то обстоятельство, что весьма долго наше государство определяли в качестве некоего «переходного типа». Но такое государство лишено стабильности и равновесия. В частности, отсутствует отлаженная система сдержек и противовесов в государственном управлении, наблюдается дисбаланс полномочий различных ветвей власти1. Масштаб аномии может быть даже не связан напрямую с законотворческой деятельностью: законов, в том числе хороших и строгих, принято много, но их качество ничего не меняет2. Иногда в специальной литературе утверждается, что за долгие годы аномия стала сущностной чертой российской политической культуры3. Аномия и обусловленные ею дисфункции есть объективно-субъективные явления, обладающие своими номинальными свойствами, и потому их не следует воспринимать как нечто случайное4.
После распада социалистической системы аномия стала следствием неспособности общества к принятию идейно размытых образцов рыночной де-мократии5. В этих условиях принимаемые правовые нормы не всегда отражают правосознание граждан, возникает противоречие между запросами населения и идеалами, закрепленными в законах страны. Установленная конституцией аксиология неизбежно влияет на все сферы общественных отношений, а те – на правосознание каждого человека. В этом контексте она обладает ресурсом идеологического и практического использования6.
Длительные и сложные поиски Российским государством собственной «национальной идеи» не могли не затронуть и содержание Основного закона. Особенно четкое выражение эти процессы получили в связи с поправками, принятыми в 2020 году, что вновь поднимает вопрос о качестве и полноте реализации конституционных норм. Однако поправки к Основному закону не могут кардинальным образом влиять на баланс общественных и индивидуальных интересов, поскольку не затрагивают главы, посвященные основам конституционного строя и правам человека.
Рассмотрим в этом качестве историю развития отечественного конституционализма через изменения предшествующей Конституции РСФСР, принятой Верховным Советом РСФСР 12 апреля 1978 г. Поправки в нее вносились всего десять раз: 27 октября 1989 г., 31 мая, 16 июня и 15 декабря 1990 г., 24 мая, 3 июля и 1 ноября 1991 г., 21 апреля, 9 и 10 декабря 1992 г. Таким образом, первые одиннадцать с половиной лет функционирования Основного закона текст его оставался неизменным, и это несмотря на то, что еще 23 апреля 1985 г. М. С. Горбачевым было объявлено о программе широких реформ, направленных на ускорение социально-экономического развития страны. Через три недели после этого прозвучал и сам термин «перестройка». Многочисленные политические решения в указанный период нашли свое выражение в изменениях законодательства. Были приняты, например, такие акты, как Закон СССР от 19 ноября 1986 г. № 6051-XI «Об индивидуальной трудовой деятельности» и Закон СССР от 26 мая 1988 г. № 8998-XI «О кооперации в СССР». Расширение сферы частной инициативы, безусловно, размывало те социальные устои, к которым привыкли советские граждане.
К осени 1989 года реформирование затронуло уже и уровень конституционного строительства: первые многочисленные изменения в Конституции РСФСР были связаны с наделением высшими полномочиями в государстве Съезда народных депутатов. Последующие конституционные изменения были столь часты и масштабны, что ни граждане, ни правоведы не имели достаточного времени для качественного уяснения положений действующей редакции Основного закона. Каждый год, с 1990-го по 1992-й, в Конституцию РСФСР вносилось три изменения. Такая частота конституционных поправок лучше, чем что-либо иное, отражает утрату государством своих прежних ценностных ориентиров и попытку опереться на новые ценности, в основном либерального толка. Так, 16 июня 1990 г. была провозглашена многопартийная система7, а 15 декабря того же года прописаны положения о государственном суверенитете РСФСР8; 24 мая 1991 г. закреплены статусы Президента РСФСР и органов местного самоуправления9, а 1 ноября 1991 г. экономика РСФСР была выведена из состава экономики СССР10. Закон от 21 апреля 1992 г.11 закреплял прямой перечень незыблемых основ конституционного строя, к числу которых относились народовластие, федерализм, республиканская форма правления, разделение властей и т.д. Отметим, что многие из соответствующих изменений противоречили действующей в это время Конституции СССР 1977 года12, что также является специфическим фактором усиления юридической аномии на этом этапе существования российского общества. Кроме того, несмотря на сохранение относительной системности самого́ Основного закона, наметились многочисленные сущностные расхождения с иными нормативными актами, которые тогда принимались.
Последние изменения в текст Конституции РСФСР вносились в декабре 1992 года13, но к этому моменту уже была осознана необходимость принятия
___________________________________ ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ совершенно нового Основного закона. Таким образом, в плане «жизненного цикла» Конституция РСФСР пережила относительно долгий период стабильного существования и период внесения в нее многочисленных изменений, которые все же не смогли отразить новые, зарождающиеся общественные отношения.
Следует отметить, что действующая Конституция РФ также характеризуется длительным периодом, когда изменения в нее, за исключением числа и наименования субъектов, входящих в состав Федерации, не вносились (1993– 2008). Поправки 2008 и 2014 годов не затрагивали ключевые устои существования государства. А вот поправка 2020 года по своей кардинальности уже соответствует тем изменениям, что были внесены в Конституцию РСФСР в последние годы ее существования.
Здесь необходимо привести справедливое высказывание Т. Я. Хабриевой и Л. В. Андриченко о том, что далеко не все из проведенных конституционных преобразований при внешнем обозначении их в качестве конституционных реформ в реальности являются таковыми. В отличие от обычного изменения Основного закона, конституционная реформа может быть охарактеризована как действие или совокупность однородных целенаправленных действий, растянутых во времени. Ее всегда отличают масштаб и последствия для конституционного регулирования отношений в обществе14. Исследовавший соответствующий вопрос А. Н. Медушевский считает, что первоначальный либеральный импульс, вдохновлявший весь процесс конституционного строительства в государствах Восточной Европы после распада социалистического блока, к настоящему времени перестал действовать. Он сменился консервативной политической ориентацией, коренящейся в чувствах отчуждения и разочарования в отношении конституционной модернизации15.
Единственной конституционной реформой в новейшей истории России мы можем считать только принятие Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» (далее – Закон о поправке). Причем на сегодняшний день, после завершения выборов Президента РФ и начала нового цикла планирования государственного
ЛИПИНСКИЙ Д. А., ИВАНОВ А. А . ________________________________________________ управления на 2024–2030 годы, есть все основания полагать, что соответствующая конституционная реформа еще не окончена.
Риски проведения конституционной реформы заключаются в значительной сложности сохранения первоначальной системы норм Основного закона. Главное ограничение состоит в том, что часть положений Конституции РФ, причем содержащих важнейшие нормы (так называемая «конституция в конституции» – ее главы первая, вторая и девятая), в принципе не могут быть изменены. В таких условиях задача сохранения необходимой связности норм Конституции после внесения в нее изменений приобретает практически невыполнимый характер. Например, одним из частных свидетельств противоречий, имеющихся в тексте Основного закона, является указание на то, что «Совет Федерации состоит из сенаторов Российской Федерации» (ст. 95), между тем сам Сенат как орган законодательной власти в России отсутствует.
Как пишет В. Д. Зорькин, Конституция РФ 1993 года изначально не идеальна хотя бы потому, что идеальных конституций не бывает. В качестве ее врожденных недостатков выделяются «раздвоение исполнительной власти (Президент, Правительство) в сочетании с независимостью Правительства от парламента, отсутствие необходимой ясности в распределении полномочий между Федерацией в целом и ее субъектами, отсутствие четкой иерархии источников действующего в стране права»16. Рассуждая о конституционноправовой терминологии, Л. И. Герасимович и В. И. Червонюк пишут о существующей неопределенности, препятствующей отождествлению органов государственной власти и государственных органов, конституционных законов и законов о поправке к Конституции17. Все это, безусловно, не добавляет четкости в нормативном регулировании.
Значительная конституционная неопределенность связана со степенью контроля органов государственной власти за деятельностью органов местного самоуправления. Так, например, в настоящее время органы государственной власти субъектов Российской Федерации участвуют в назначении глав муниципальных образований во взаимодействии с соответствующими муниципальными депутатами, что приводит к неопределенности относительно предмета административно-правового и муниципально-правового регулирования.
Другой проблемой является лаконичность формулировок Конституции РФ по вопросам фискальных полномочий, что порождает недосказанность касательно взаимоотношений субъектов РФ в сфере формирования доходов их бюджетов18.
В качестве существенной проблемы сегодня может рассматриваться отнесение федеральным центром новых отраслей законодательства, прямо не предусмотренных статьями 71 и 72 Конституции РФ, к ведению РФ или совместному ведению РФ и субъектов Федерации путем прямого директивного указания19. Напомним, что к федеральному ведению конституционный законодатель отнес законодательство о судоустройстве, уголовно-исполнительное и уголовное законодательство, процессуальное законодательство в целом (п. «о» ст. 71). В качестве дополнительного источника юридической неопределенности можно указать на упоминание о гражданском законодательстве и законодательстве в области регулирования интеллектуальной собственности. При этом после проведенной в середине нулевых годов кодификации положения, связанные с регулированием института интеллектуальной собственности, были объединены в добавленной к Гражданскому кодексу РФ части четвертой20. Теперь, исходя из буквального толкования положений Основного закона, ГК РФ содержит в себе нормы, относящиеся к различным отраслям отечественного законодательства.
Отрасли законодательства, находящиеся в совместном ведении Федерации и ее субъектов, упоминаются в пункте «к» части 1 статьи 72 Конституции РФ. Соответствующий перечень также вызывает много вопросов. В частности, несмотря на то, что о процессуальном законодательстве в целом говорится в статье 71 как о предмете исключительного ведения Российской Федерации, здесь мы встречаем указание на «административно-процессуальное законодательство». Таким образом, соответствующее положение статьи 71 мы должны толковать ограниченно. Согласно статье 118 Конституции РФ, «судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства», однако
ЛИПИНСКИЙ Д. А., ИВАНОВ А. А . ________________________________________________ лишь три из четырех указанных видов процесса регулируются исключительно на уровне Федерации.
К числу отраслей законодательства, находящихся в совместном ведении Федерации и ее субъектов, Основной закон относит административное, пребывающее на стыке публично-правовых и частноправовых отношений трудовое законодательство, а также семейное, жилищное, земельное, водное, лесное, законодательство о недрах и об охране окружающей среды. В соответствии со статьей 73 Конституции РФ «вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной власти». В связи с чем сразу возникает вопрос: к ведению какого субъекта мы должны отнести новые отрасли законодательства? Например, Указ Президента РФ от 15 марта 2000 г. № 511 «О классификаторе правовых актов» говорит о возможности отнесения нормативного акта, кроме указанных в Конституции, также к категориям «Социальное обеспечение и социальное страхование», «Финансы», «Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело», «Информация и информатизация», «Образование. Наука. Культура» и др. Однако отнесение всех перечисленных отраслей законодательства к исключительному ведению субъектов Российской Федерации в соответствии с прямым указанием статьи 73 Основного закона, конечно, не представляется возможным.
Введенная в Конституцию РФ в 2020 году статья 79.1 закрепляет деятельность государства по принятию мер, направленных на поддержание и укрепление международного мира и безопасности, обеспечение мирного сосуществования государств и народов, недопущение вмешательства во внутренние дела государства. Однако в соответствии со статьей 24 Устава Организации Объединенных Наций, принятого в Сан-Франциско 26 июня 1945 г., «главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности», возложена именно на Совет Безопасности ООН. Данные положения, несмотря на некоторую неопределенность механизмов их практической реализации, еще раз подтверждают тот факт, что Россия безоговорочно пошла по пути обеспечения собственного суверенитета. В настоящее время в политикоюридический оборот было введено понятие и культурного суверенитета21.
Многочисленные коллизии выявляются юристами не только между нормами Конституции и реальной политической практикой, но и между отдельными положениями Основного закона. Можно также говорить о наличии многочисленных противоречий между конституционными нормами и текущим законодательством. Например, уже упоминавшийся Закон о поправке был принят по результатам общероссийского голосования. Такой механизм не предусмотрен в Конституции РФ и в законодательстве о референдуме. В свою очередь, в соответствии с частью 18 статьи 2 Закона о поправке органы власти «вправе» выделять из бюджета средства «на оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования». Тем не менее в соответствии с частью 3 пункта «б» Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96, такая формулировка рассматривается в качестве коррупциогенного фактора. Все предлагаемые юристами формальные доводы о техническом несовершенстве и неопределенности принятого закона теряют силу ввиду особого характера конституционно-правового регулирования. Как было сформулировано Конституционным Судом РФ относительно соответствующей поправки, «конституционный законодатель может учитывать и конкретно-исторические факторы принятия соответствующего решения, в том числе степень угроз для государства и общества, состояние политической и экономической систем и т.п. Всенародное же голосование придает дополнительную конституционную легитимность соответствующему решению»22.
При этом соответствующие дефекты правового регулирования ранее неоднократно выделялись Конституционным Судом РФ – например, относительно российского избирательного законодательства23. Как пишет К. В. Арановский, конституционализм представляет собой традицию, имеющую как свою видимую часть – нормативные тексты и политико-правовые учреждения, так и часть невидимую – систему мировоззренческих представлений, поведенческих навыков и образов. Образование конституционного режима представляет не столько официальный акт провозглашения конституции, сколько привитие соответствующего образа жизни и соответствующей философии24. При этом даже после многочисленных разрушений, которые претерпела отечественная правовая культура, ее сфера вовсе не представляет собой пустого и неосвоенного пространства, в рамках которого мог бы быть свободно разрешен конституционализм. Напротив, наличие своеобразных «остатков» правовой культуры, сформировавшейся ранее, приводит к тому, что конституционные изменения, запланированные к осуществлению в России, очень часто в своей фактической реализации значительно отличаются от их первоначальной цели. Реализация конституционных изменений происходит не в той последовательности и вовсе не в той либеральной интерпретации, которая следует из буквального толкования текста действующего Основного закона. Речь идет о взаимодействии Конституции Российской Федерации и соответствующей конституционно-правовой традиции.
А. Ю. Мордовцев пишет по этому поводу, что как конституция, так и конституционализм в целом вовсе не обязательно будут увязаны с некой конкретной письменной формой. В России возможна только конституция, чья целевая направленность отражает особенности национальной социальной и политической жизни. Ввиду явного усиления процессов империостроительства в России после 2012 года у суждений, в соответствии с которыми отказывается в перспективе всем иным принципам устройства политической и правовой системы, кроме либеральных, отсутствует рациональное содержание25. О важности учета не только конституционного текста (юридической конституции), но и реального порядка осуществления государством принадлежащей ему власти, тех возможностей, которые государство предоставляет обществу (фактической конституции), пишет Д. С. Велиева26. В. И. Червонюк предполагает, что
___________________________________ ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ в качестве права рассматриваются не только законы или судебные решения, но также и существующие в обществе юридические обычаи, правосознание судей и т.п. Все указанные компоненты выступают как составные элементы реального правопорядка. При таком подходе в качестве права следует определять не то, что продекларировано на государственном уровне, пусть даже и в акте конституционного характера, а то, что получает воплощение в реальной юридической практике. Соответствующая идея «живого права» послужила основой для формирования идеи «живой конституции», разрабатываемой в США в XX веке27.
Конституционный Суд РФ тоже нередко ориентируется на такой подход к толкованию Основного закона. Зачастую он не только констатирует наличие неопределенностей правового регулирования разнообразных общественных отношений, но и формулирует правовые позиции, существенно влияющие на процесс корректировок различных отраслей отечественного законодательства.
Позицию Председателя Конституционного Суда РФ можно до некоторой степени рассматривать как выражение мнения высшей судебной инстанции в целом. В статье В. Д. Зорькина было отмечено, что, несмотря на изначальную неидеальность Конституции РФ 1993 года, как, впрочем, неидеальность любой иной конституции в мире, подобные недостатки могут быть устранены точечными изменениями текста Основного закона. Заложенный же в данном тексте глубокий правовой смысл позволяет адаптировать его к меняющимся социально-правовым реалиям. Опора на доктрину «живой конституции» дает возможность, не искажая сути правового смысла, заложенного в конституционный текст, выявлять его актуальное значение в контексте современных социально-правовых реалий28. Речь идет о наличии множества смыслов, или полисемии – качестве, которое свойственно не только действующей конституции, но и, например, федеративному договору29.
Признание полисемичности конституционного акта может привести и к выводу о ненужности конституционных реформ. По этому пути пошли США, продолжающие использовать Конституцию 1787 года. У В. Д. Зорькина встречаются
ЛИПИНСКИЙ Д. А., ИВАНОВ А. А . ________________________________________________ высказывания, что и нам следует двигаться по этому пути, стремясь глубже понимать, раскрывать и постоянно развивать правовой потенциал нашего Основного закона. Представления же о том, что путем конституционной реформы можно изменить ход событий и развернуть их в каком-то более верном направлении, воспринимаются как опасные, поверхностные, недальновидные и даже как проявление юридического идеализма30.
Такое понимание конституции близко именно государствам общего права, имеющим исторические традиции судебного правотворчества. Однако в России, в отечественной правовой культуре, подобные юридические традиции отсутствуют. Поэтому такой подход чреват усилением юридической аномии. Для населения намного проще почерпнуть информацию о существующих конституционных нормах в тексте самого́ Основного закона, чем изучать все многообразие их трактовок, наработанное практикой Конституционного Суда РФ. Словом, несмотря на некоторую притягательность и «престижность» описанного подхода (поскольку повышается общегосударственный статус КС РФ), применять его нужно с осторожностью.
Нормативная неопределенность порождается возможностью неоднозначного толкования исследуемых законоположений и, как следствие, их произвольного правоприменения и нарушения прав и свобод человека и гражданина. Конституционный Суд России побуждает федерального законодателя к незамедлительному устранению обнаруженных неопределенностей. Если этого не происходит, Суд вынужден дублировать сформулированные им ранее правовые позиции, осуществлять актуализацию правовых позиций путем их обобщения. Таким образом, фактическое расширение Судом своих полномочий осуществляется только по необходимости. Такая потребность исчезнет, если законодатель будет оперативно обеспечивать имплементацию правовых позиций Конституционного Суда РФ в «ткань» законодательства31.
При этом сегодня нередки ситуации, когда публичная власть в целом реализуется во внеправовой форме (комплексное понятие, объединяющее такие формы, как «теневая», «неформальная», «неправовая»). Реализуемые внеправовые, но легитимированные в дальнейшем обществом формы
___________________________________ ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ государственного воздействия на политические процессы могут получить институционально-нормативное оформление32.
В современной научной литературе обращается внимание и на то, что неопределенность не всегда является дефектом законодательства, иногда она выступает своеобразным методом правового регулирования, поскольку предоставляет свободу правоприменителю с целью достижения оптимального результата. Отмечается, например, что, поскольку право должно быть способно следовать за изменяющимися отношениями, во многих законах используются термины, в большей или меньшей мере неопределенные и рас-плывчатые33. Распространены и более традиционные мнения, в соответствии с которыми правовые нормы должны быть определены по предмету регулирования, сформулированы с надлежащей точностью, быть ожидаемыми и прогнозируемыми34.
Таким образом, несмотря на то, что обычно отсутствие определенности воспринимается именно как дефект законодательства, поскольку влечет противоречивую и произвольную правоприменительную практику, в некоторых случаях оно необходимо. В отношении конституционных актов неопределенность может рассматриваться как метод регулирования, позволяющий в конкретной ситуации использовать гибкость правового регулирования для достижения оптимального результата. Проблема в том, что грань между такой «положительной» неопределенностью и «дефектной» весьма зыбкая35.
Завершая рассмотрение проблематики успешности реализации конституционных норм в России, важно отметить, что система ценностей, зафиксированных преимущественно в первой главе новой Конституции, представляет Россию в качестве одновременно демократического, светского, правового и деидеологизированного государства в единстве соответствующих характеристик конституционного строя. Не предполагалось, что одни черты государства уже проявились, а другие еще находятся в процессе своего становления. Таким образом, и граждане должны были одномоментно отказаться от существующих у них социальных и государственных установок и воспринять новый порядок вещей во всем многообразии его компонентов.
Проведенное исследование позволяет выделить несколько разновидностей противоречий. Во-первых, это противоречие между фактической конституцией и юридической. Во-вторых, между отдельными конституционными нормами. В-третьих, между нормами конституционного и других отраслей российского права. В-четвертых, между формированием правовых позиций Конституционным Судом РФ, фактическим восприятием им концепции «живой конституции», с одной стороны, и фундаментальными особенностями романо-германской правовой семьи, к которой относится отечественная правовая система, – с другой.
Законодателю необходимо обладать знаниями, опытом, навыками, позволяющими осуществлять профессиональную деятельность качественным образом, не вступая в сферу юридической аномии и не усиливая это состояние своими действиями. В настоящее время, к сожалению, юридическая аномия проникает и на уровень правотворческой деятельности, затрагивая в том числе и конституционное нормотворчество. Преломляясь в сознании их адресатов, аномичные нормы права самым отрицательным образом сказываются на качестве непосредственного правоприменения, разрушительно воздействуют на правосознание и правовую культуру всех участников соответствующих отношений.
В условиях, когда широкие слои российской общественности воспринимали себя как советское или постсоветское общество, положения новой Конституции обеспечивали сохранение в государстве сформировавшихся в советский период ценностей. Потребовался значительный период времени, чтобы эта ситуация начала меняться. Однако поправка к Конституции РФ 2020 года привела к новым осложнениям, добавив в текст Основного закона большое количество консервативных ценностей, которые фактически противоречат либеральным ценностям, содержащимся в первой и второй главах. Поэтому единственным вариантом решения сложившейся проблемы в текущих условиях представляется принятие новой Конституции РФ.
Список литературы Проявления юридической аномии в сфере реализации конституционных норм
- Арановский К. В. Конституция как государственно-правовая традиция и условия ее изучения в российской правовой среде // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2002. № 1. С. 41-50.
- Арзамаскин Н. Н. Форма правления в современной России в условиях переходности // Представительная власть - XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. 2007. № 5. С. 1-3.
- Аристов Е. В., Щепетильников В. Н. Формирование единой системы публичной власти в России как вектор новой конституционности // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2023. № 2 (60). С. 194-214.
- Богмацера Э. В., Новопавловская Е. Е. Преодоление неопределенности правового регулирования общественных отношений как результат конституционного судопроизводства, инициированного Верховным Судом Российской Федерации // Вестник Российской правовой академии. 2017. № 4. С. 52-62.
- Велиева Д. С. Проблемы корреляции фактической и юридической конституции // Конституция Российской Федерации: 20 лет спустя: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Саратов, 24-25 октября 2013 г.). Саратов: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2014. С. 14-16.
- Волошин В. М. Значение определенности права в деятельности Верховного Суда Российской Федерации // Российское правосудие. 2019. № 8. С. 5-13.
- Герасимович Л. И., Червонюк В. И. Язык конституционного права и конституционно-правовая терминология // Международный журнал конституционного и государственного права. 2017. № 4. С. 94-97.
- Гребенников В. В. Государство, народ и гражданское общество в России // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2015. № 3. С. 100-112.
- Довгань К. Е. Развитие рамочного правового регулирования в области разграничения предметов ведения и полномочий федеральных органов государственной власти Российской Федерации и ее субъектов // Сибирское юридическое обозрение. 2022. Т. 19, № 3. С. 233-244.
- Забайкалов А. П. Процедуры голосования в избирательном процессе: современное состояние и перспективы развития. Воронеж: Наука-Юнипресс, 2016.
- Зорькин В. Д. Конституция РФ - правовая основа интеграции российского общества // Государство и право. 2018. № 12. С. 5-17.
- Игнатенко В. ВПетров А. А. Содержательная неопределенность правового регулирования выборов как предмет конституционно-судебной оценки в Российской Федерации // Журнал конституционного правосудия. 2022. № 6. С. 1-7.
- Калинин А. Ю., Кириллов С. И. Дефекты правообразования с позиций структурно-функционального подхода // Вестник Московского университета МВД России. 2012. № 5. С. 22-30.
- Липатов Э. Г., Чаннов С. Е. Конституционно-правовое регулирование разграничения полномочий в Российской Федерации как способ реализации распределительной политики // Государственная власть и местное самоуправление. 2018. № 7. С. 22-27.
- Лихтер П. Л. Аномия общества при дисбалансе конституционных ценностей // Наука. Общество. Государство. 2021. Т. 9, № 4. С. 90-98. URL: https: //rucont.ru/efd/613981.
- Медушевский А. Н. Конституционная ретрадиционализация в Восточной Европе и России // Сравнительное конституционное обозрение. 2018. № 1. С. 13-32.
- Мирзаев Р. М. К вопросу об уточнении положений Конституции Российской Федерации о фискальных полномочиях // Право и государство: теория и практика. 2020. № 3. С. 130-133.
- Мордовцев А. Ю. Особенности и техника социально-политического толкования конституционных норм в условиях государства переходного типа // Философия права. 2014. № 5. С. 77-82.
- Нарутто С. В. Определенность законодательства как гарантия прав и свобод человека и гражданина в конституционно-судебной доктрине // Lex Russica (Русский закон). 2018. № 10. С. 40-49.
- Овчинников А. И., Мамычев А. Ю., Литвинова С. Ф. Внеправовое и теневое функционирование публичной власти // Социально-экономические и гуманитарно-философские проблемы современной науки. Москва: Уфа: Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2015. Т. 2: Ментальное пространство социума. С. 60-67.
- Попов М. Ю., Бугаенко Ю. Ю. Влияние государства на уровень правового нигилизма в современном российском обществе // Экономические и гуманитарные исследования регионов. 2013. № 4. С. 97-104.
- Свередюк М. Г., Ступак В. С., Люцко В. В. Правовые неопределенности в реализации норм, регламентирующих информированное добровольное согласие пациента на медицинское вмешательство // Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. 2022. № 1. С. 514-525.
- Хабриева Т. Я., Андриченко Л. В. Конституционные реформы на постсоветском пространстве: тенденции развития // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2017. № 37. С. 272-287.
- Червонюк В. И. Трансформация идеи "живой конституции" в российской конституционной практике // Право и государство: теория и практика. 2020. № 2. С. 124-128.