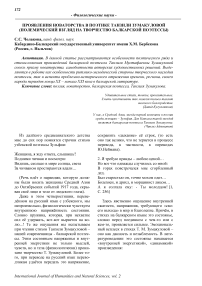Проявления новаторства в поэтике Танзили Зумакуловой (полемический взгляд на творчество балкарской поэтессы)
Автор: Чолакова С.С.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 2 (5), 2017 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматриваются особенности поэтического ряда и стихосложения произведений балкарской поэтессы Танзили Мустафаевны Зумакуловой сквозь призму новаторства, самобытности авторских художественных решений. Выделяются в работе как особенности ритмико-мелодической стороны творческого наследия поэтессы, так и аспекты проблемно-исторического отражения времени, региона, своего народа периодов конца ХХ - начала ХХI века в балкарской литературе.
Поэзия, новаторство, балкарская поэтесса, танзиля зумакулова
Короткий адрес: https://sciup.org/170184483
IDR: 170184483
Текст научной статьи Проявления новаторства в поэтике Танзили Зумакуловой (полемический взгляд на творчество балкарской поэтессы)
Из далёкого среднеазиатского детства мне до сих пор помнятся строчки стихов узбекской поэтессы Зульфии:
Женщина, я жду ответа, слышишь?
Подними чичван и посмотри:
Видишь, сколько в мире солнца, света За чичваном простираются вдали...
(Речь идёт о парандже, которую должны были носить женщины Средней Азии до Октябрьских событий 1917 года, скрывая своё лицо и тело от людского глаза).
Даже в этом четверостишии, переведённом на русский язык с узбекского, мы непроизвольно, физиологически чувствуем внутреннюю напряжённость состояния. Словно пружина, которая, при нехватке сил её удержать, вот-вот вырвется на волю...! Те же ощущения мы испытываем при чтении стихов Танзили Зумакуловой – нашей современницы - балкарской поэтессы. Этим состояньем напряженья и внутренней энергетики не только мыслей, чувств, но и тела (физиологически) пронизано творчество Т. Зумакуловой. Более того, при переводе на русский язык переводчикам удаётся передать это напряжение,
Удивительные стихи, тонкие, пронзительные.
Уметь чувствовать так может только талант высокого благородства.
(Давид Кугультинов)
У нас, в Средней Азии, звезда первой величины в поэзии среди женщин – Зульфия. Для Кавказа такой звездой является балкарская поэтесса Танзиля Зумакулова.
(Чингиз Айтматов)
сохранить «дыхание» её строк, (то есть оно так велико, что не теряется в процессе перевода, в частности, в переводах Ю.Неймана).
-
2. Я требую правды - любою ценой...
-
3. Бу дунияда керти къонакъ эсем да, Къонакъбайда мычымай унутуллукъ, Бу дунияда жауун тамычы эсем да Жерге тюшюп, мычымайын жутуллукъ… [1, С. 319]
-
4. Жашау кёп кере мени да тюйдю, Алай кёпледен ол мени сюйдю.
Но вот что однажды случилось со мной:
В горах повстречался мне сгорбленный дед.
Был старостью он, точно мохом одет... Болезнен, и дряхл, и морщинист лицом...
А я солгала ему: - Ты молодцом! [1, С. 256]
Здесь явственно ощущение внутренней сжатости, напряжения, требующего «своего выхода» в мир и благолепие. Причём, в стихах на балкарском языке это состоянье, словно перед поединком с чем-то или с кем-то, проявляется сильнее. Эмоциональный всплеск в стихах Т. М. Зумакуловой -оно как данность и незыблемость. В литературоведении это состоянье называется «внутренней энергетикой», «динамикой» произведения:
Мелодика строк даже при смысловой её закрытости (например, текста на балкарском языке для русскоязычного читателя), удерживает читательское вниманье и интерес восприятия со знаком «плюс» своей особенностью ритмики и интонационной мотивацией.
Соотношение ритма, рифмы, «музыки» стихов с сюжетно-смысловым, душевным состоянием автора предопределяют поэтический инструментарий художника: поэт сливается с «мелодикой» своих мыслей, душевного состояния, и для слушателя уже не принципиально, как факт, точное понимание смысла строк, поскольку «считывание текста» происходит на уровне ощущений, исходящее от самого поэта как эмоциональное воздействие .
За счёт чего происходит это внутреннее волнение души, это трепетное состоянье восторга (или настороженности) и ожиданья «выхода эмоций из неволи» во время чтения стихов Т.Зумакуловой? Как поэтессе это состоянье удаётся будить в себе, и в нас ответно вызывать? Конечно, здесь не совсем всё просто. В этом особенность её таланта, который есть синтез многих составных: художественный дар, эмоциональность, «открытость миру» и искренность, собственно-поэтический слог в самостоятельном проявлении авторско-самобытного стихосложения для современной балкарской поэзии и т.д... Попробуем в этом теоретически разобраться.
Помнится, один из героев А.С.Пушкина «не мог ямба от хорея… отличить». Поэт по такому поводу очень сокрушался, поскольку ямб и хорей - это самое простое для стихосложения. Самый «легковесный» в поэзии двухсложный слог. А.С.Пушкин их очень любил, поскольку ямб и хорей в строках легки и игривы как теннисный мя- чик: раз-два! Например:
Один среди своих владений, -\ -\ -\ -\ -Чтоб только время проводить, -\ -\ -\ -\ Сперва задумал наш Евгений -\ -\ -\ -\ -Порядок новый учредить. -\ -\ -\ -\ (А.С.Пушкин «Евгений Онегин»)
Хрестоматийно, что для русского поэта Н.А.Некрасова были характерны всё больше трёхсложные размеры стиха: Раз-два-три!
Выдь на Волгу! Чей стон раздаётся --\ --\ --\ -
Над великою русской рекой? --\ --\ --\ Этот стон у нас песней зовётся, --\ --\ --\ -То бурлаки идут бечевой. --\ --\ --\
(Н.А.Некрасов «На Волге»)
По этому поводу обратимся к теории: «В каждом размере при любых его вариациях сохраняется какое-либо сочетание из тех, что входит в систему его основных ударений» [2, С. 324].Отсюда следует, что размеры стихов поэтесс Зульфии и Т. Зумакуловой могут быть определены как трёхстопный и четырёхстопный ямб с их многовариантностью и богатством ритмических определителей: с пиррихирова-нием (с вспомогательными стопами - пиррихий), с чередованием сильных и слабых ударений (моноподических и диподиче-ских строк). Этот синтез применения дактиля, амфибрахия, анапеста в контекстах балкарского (тюркского) текстового стихосложения создаёт авторизованные оттенки выразительности. Это как данность с точки зрения законов стихосложения. Но в тюркских языках сама структура стихосложения сложная. Она основана на силлабической организации «поэтической ткани», что связано с фонетической и морфемной языковой особенностью. Удивительно, но у Т.Зумакуловой нет слоговой нагромождённости.
Я требую правды - любою ценой. -\ --\ --\ --\ ...и т.д.
Но вот что однажды случилось со мной: -\ --\ --\ --\
В горах повстречался мне сгорбленный дед. -\ --\ --\ --\
Был старостью он, точно мохом одет. (Т. Зумакулова)
-
3. Бу дунияда керти къонакъ эсем да, —\ ----\---
- Къонакъбайда мычымай унутуллукъ, —\ -\ —\ - .и т.д.
-
4. Жашау кёп кере мени да тюйдю, -\ —\ ----\
Бу дунияда жауун тамычы эсем да Жерге тюшюп, мычымайын жутуллукъ. (Т. Зумакулова)
Алай кёпледен ол мени сюйдю. -\ --\ --\ -\
(Т. Зумакулова)
Мы видим чёткое чередование ударных и безударных трёхсложных и четырёхсложных слогов в данных стихах-примерах (взятых из текстов поэтессы Т. Зумакуловой случайно). В каждой строке балкарской поэтессы этот закон стихосложения «отшлифован» самостоятельной кодировкой. Здесь необходимо также обратить внимание на особенности ритмики: в стихотворных строках поэтессы акцентное ударение преобладает на последний слог. В этом случае считается, что мужская ритмичность подчёркивает чеканность поэтического слога. В данных примерах мужская рифма несёт на себе другие функции, более глубинные, не умаляя, конечно, задач чеканности и жёсткости ритма.
Если говорить о внутренней динамике произведений Танзили Зумакуловой, то именно мужские рифмы придают строчкам стихов поэтессы эффект кульминаци-онности, накала страстей в момент их чеканности в конце каждой строчки-мысли. Затем интонационно следует пауза как мини-развязка в промежутке для следующего «эмоционального порыва». Что получается? Маленькая строка-драма с её «завязкой», «продолжением действия», «кульминацией» и смысловой паузой для
«развязки» и нового вздоха. Это есть внутренняя энергетика, динамика мысли в каждой строке, пронизанная эмоциональной авторской окраской. Маленькая драма в пределах каждой поэтической строки. Причём, при первичном чтении текстов Т.Зумакуловой данные ощущения не выявляются так «открыто». При повторном же чтении более явно проявляется это состояние «пробуждения в себе» - интонационного и эмоционального нарастания голоса «на финише», с последующим повышением голоса на полтона в каждом четверостишии, с выходом на финиш-крещендо финального конца стихотворения. Именно в этом и есть проявление новаторства и уникальности поэтического дара поэтессы, неповторимости мелодики её произведений: в каждой строке Т. Зумакуловой не только чёткая конструкция ударных и безударных слогов. «Ткань» эмоционального рисунка каждой из строк стихотворений несёт в себе также дополнительную организацию душевного состояния лирического героя через трагедийность жизни или торжество бытия, через самоутверждение поэтического образа, его «маленькая» победа над обстоятельствами или, напротив, интонация обречённости и т.д. Проверьте эти мои ощущения на любом стихотворении поэтессы через «призму» нарастания собственного голоса, эмоциональной напряжённости каждой её строки и в кульминационном триумфе финишных слогов. Именно это состояние поэзии определяется категорией: «поэтический инструментарий», что есть доказательной базой особенностей поэтики Т. Зумакуловой, касающаяся «технической стороны» её стихов. И об этом можно говорить много, рассматривая более предметно сам «факт явления» на многообразии примеров из поэтических текстов.
Когда мы целостно воспринимаем поэтику строк Т. Зумакуловой, мы чувствуем и умом и сердцем эту особенность её дарования через особый ряд образов, слов, фонем. Следует добавить, что женская тематика в русской поэзии - явление особенное, волнующее читателей. Однако Т. Зумакулова одна из немногих современных горянок, говорящих с нами в кон- тексте реальности не только о личном. Её волнует то общечеловеческое, что сближает нас с людьми разных стран и континентов.
Хоть и замерзала я в твоих снегах, Хоть и опаляла я грудь в твоих огнях, Я всегда шептала, радуясь, скорбя: «Только б не лишиться, Родина, тебя..!» [1, С. 246].
Возможно поэтому у поэтессы много подражателей. Но «копии» всегда, как мы знаем, уступают «оригиналу». Стихи Т.Зумакуловой ни с кем не спутать. На сегодня эта особенность творчества балкарских современных поэтов – малоизученная сторона балкарской поэтической мысли, поскольку законами ритма и рифмы большей частью заниматься исследователи не хотят. Как ни странно, «килограммы-километры» бумаги исписаны «общеочевидными явлениями в современной поэзии… современных поэтов» (в духе сплошной демагогии!), а исследований по изучению инструментов мастерства и таланта поэтов по законам стихосложения и особенностей поэтического слога – нет. Всё начинается с рифмы и ритма, с творческой мастерской конкретного художника, а не с общих, «обтекаемых» тем. Любому школьнику известно, что на слух можно чувствовать и различать поэтический ряд строк А.С. Пушкина,
Н.А. Некрасова, С.А. Есенина,
В.В. Маяковского, В.С. Высоцкого,
К.Ш. Кулиева, Т.М. Зумакуловой и т.д.
Эти авторы потому и велики, что их слог, ритмику, мелодику стихосложения ни с кем не спутать, их стихи особенны и неповторимы. Но чтобы исследовать технику стиха того или иного автора, нужно самим этими знаниями свободно владеть, в этом досконально разбираться. Более всего это касается произведений тех авторов, которые представлены читателям как на родном для поэта языке, так и в вариантах перевода на другие языки. Нельзя испечь пирог, не разобравшись в его рецептуре. Увы, «рецептурой» балкарского стихосложения мало кто на сегодня занимается, и об этом в северокавказском литературоведении на сегодня публикаций почти нет, за исключением давней статьи (на 15 страниц от 1972 года) об особенностях балкарского стихосложения литературоведа Урусбиевой Ф.А. в сборнике «Путь к жанру» [3, С. 175].
С некоторыми положениями данной статьи можно поспорить, не согласиться. Автор в те годы, возможно, нас приглашала к предметному обсуждению своей концепции современного балкарского стихосложения. Хотелось бы надеяться, что современные исследователи кавказской литературы ХХI века заинтересуются «поэтической кухней» балкарского стихосложения разных авторов и внесут большую ясность в суть дела, так как и в балкарской поэзии ещё так много неизведанного, много «потаённого и сокрытого», в числе которых – таинство поэтического слова нашей современницы – Т.М. Зумакуловой.
Список литературы Проявления новаторства в поэтике Танзили Зумакуловой (полемический взгляд на творчество балкарской поэтессы)
- Зумакулова Т.М. Слово и судьба. О творчестве Т. Зумакуловой. Стихи. - Нальчик: Эльбрус, 1994. - 496 с.
- Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. - М.: Просвещение, 1971. - С. 324.
- Урусбиева Ф.А. Путь к жанру. - Нальчик: Эльбрус, 1972. - С. 175.