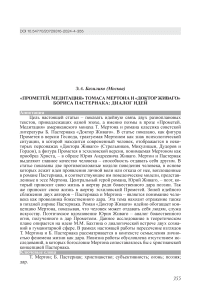"Прометей. Медитация" Томаса Мертона и "Доктор Живаго" Бориса Пастернака: диалог идей
Автор: Базилико Э.А.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Компаративистика
Статья в выпуске: 4 (71), 2024 года.
Бесплатный доступ
Цель настоящей статьи - показать идейную связь двух разноплановых текстов, принадлежащих одной эпохе, а именно поэмы в прозе «Прометей. Медитация» американского монаха Т. Мертона и романа классика советской литературы Б. Пастернака «Доктор Живаго». В статье показано, как фигура Прометея в версии Гесиода, трактуемая Мертоном как знак психологической ситуации, в которой находится современный человек, отображается в некоторых персонажах «Доктора Живаго» (Стрельников, Микулицын, Дудоров и Гордон), а фигура Прометея в эсхиловской версии, понимаемая Мертоном как прообраз Христа, - в образе Юрия Андреевича Живаго. Мертон и Пастернак выделяют главное качество человека - способность отдавать себя другим. В статье показаны две противоположные модели поведения человека, в основе которых лежит идея проявления личной воли или отказа от нее, воплощенные в романе Пастернака, и соответствующие им поведенческие модели, представленные в эссе Мертона. Центральный герой романа, Юрий Живаго, - поэт, который приносит свою жизнь в жертву ради божественного дара поэзии. Так же приносит свою жизнь в жертву эсхиловский Прометей. Зоной идейного сближения двух авторов - Пастернака и Мертона - является понимание человека как проводника божественного дара. Эта тема находит отражение также в поздней лирике Пастернака. Роман «Доктор Живаго» идейно обогащает концепцию Мертона, показывая, что человек может отдавать себя людям, служа искусству. Поэтическое вдохновение Юрия Живаго - аналог божественного огня, полученного в дар Прометеем. Данное исследование в теоретическом плане опирается на идею М.М. Бахтина о диалогической встрече двух сознаний в гуманитарной сфере. В рамках настоящей работы пересечение взглядов Т. Мертона и Б. Пастернака рассматривается в контексте осмысления личностью феномена жизни как дара. Новизна работы обусловлена отсутствием исследований, в которых богословие Мертона сопоставлялось бы с христианской концепцией Пастернака.
Т. мертон, б. пастернак, христианство, субъективность, огонь, поэзия
Короткий адрес: https://sciup.org/149147132
IDR: 149147132 | DOI: 10.54770/20729316-2024-4-355
Текст научной статьи "Прометей. Медитация" Томаса Мертона и "Доктор Живаго" Бориса Пастернака: диалог идей
Thomas Merton; Boris Pasternak; Christianism; subjectiveness; fire; poetry; gift.
Теоретической основой сопоставления вынесенных в заглавие произведений является концепция диалога М.М. Бахтина, который писал о «диалогической встрече двух сознаний в гуманитарных науках» [Бахтин 1986, 256]. Такая «встреча» предполагает область пересечения идей авторов – в нашем исследовании это изображение человека как личности, несмотря на то что герой Мертона – это мифологический персонаж, ставший героем древнегреческих авторов Еврипида и Эсхила и переосмысленный христианским монахом, а герой Пастернака – русский интеллигент первой половины ХХ в., «неповторимая и в то же время “обычная” личность, втянутая в страшный событийный водоворот и сохранившая верность своему назначению, т.е. истории» [Поливанов 2024, 233].
До сих пор в научной литературе о Пастернаке не было повода для сравнения его творчества с концепцией Мертона. Отправной точкой нашего исследо- вания является наблюдение Е. Ванеян, написавшей предисловие к переводу на русский язык сочинения Мертона «Прометей»: «Параллели между Прометеем Мертона и некоторыми характерами и положениями в “Докторе Живаго”, и более широко – между взглядами Мертона и Пастернака на жизнь и христианство представляются естественными. Но читателю будет интереснее самому найти подобные соответствия» [Мертон 1978, 3].
В 1958 г. началась переписка между американским монахом Томасом Мертоном и русским поэтом Борисом Пастернаком, и в том же году, 4 июля, монах-траппист опубликовал небольшую поэму в прозе под названием «Pro-metheus, a Meditation». Поблагодарив тех, кто поддерживал публикацию книги, американский монах написал: «Я думаю попытаться передать экземпляр поэту Борису Пастернаку» [Pearson 2014, 5]. Мертон решил написать Пастернаку и прислать ему копию своей поэмы не только потому, что испытывал к нему уважение, но, прежде всего, потому что он чувствовал глубокую духовную близость к христианской концепции, которая питала жизнь и творчество Пастернака. Монах-траппист заметил, что и он сам, и Пастернак, хотя и разными жизненными путями и посредством разных культурных контекстов, пришли к сходному пониманию символического значения образа Христа. Кроме того, монах-траппист утверждал, что его идеи нашли разъяснение и подтверждение в тексте романа великого русского поэта и что без знания творчества Пастернака его христианское видение осталось бы неполным. В рамках данной статьи мы ограничились сравнением поэмы Томаса Мертона «Прометей» и романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» Пастернака, показав, как фигура Прометея, изображенная Томасом Мертоном, находит свое завершение, прояснение и воплощение в образе доктора Живаго.
Концепция личности у Мертона
Чтобы понять мысль Мертона, природу его размышлений о современном человеке и то, какие концепции выдвинуты в его работах, необходимо прежде всего ознакомиться с двумя версиями мифа о Прометее, к которым он обращается. Гесиод рассказывает, как титан Прометей украл огонь у богов, чтобы передать его людям, жившим в изгнании на Земле. Зевс, чтобы наказать Прометея, приковывает его обнаженным к скале и приказывает, чтобы орел Айтон, пролетая над ним, клевал его печень. В этой версии Прометей предстает как мошенник и вор, поскольку он имел дерзость бросить вызов богам, украв у них огонь. Таким образом, Мертон утверждает, что благодаря этому варианту мифа возникает фигура высокомерного, самонадеянного существа, главная вина которого, помимо того что он выходит за пределы дозволенного богами, заключается в предательстве. Зевс подарил огонь Прометею, а тот своевольно захотел передать его людям. Отсюда, по Мертону, – главная проблема современного человека: претензия на полновластное распоряжение тем, что ему не принадлежит, а именно даром, который имеет божественную природу. Трагическая ситуация заключается в том, что современный человек больше не способен принимать дар жизни в полноте и разнообразии ее проявлений. Напротив, стремление человека – узурпировать этот дар, что делает его разочарованным существом, запятнанным огромным чувством вины. «Гесиодова версия мифа о Прометее – образ психологической ситуации [современного] человека: виновного, бунтующего, разочарованного, не уверенного в себе, в своих дарах и в своих силах, отчужденного, но желающего утвердить себя…» [Merton 1999, 22].
Такая парадоксальность положения, по словам Мертона, повергает современного человека в растерянность, в силу чего он оказывается неспособным найти свою сущность, свой «центр». Состояние растерянности предопределяет невозможность видеть что-либо кроме себя и собственных потребностей, то есть нацеливает человека исключительно на то, чтобы культивировать тенденции самоутверждения, замкнутость в себе и концентрацию на собственных страхах.
Как печальна фигура Прометея и как печальны его боги… Как не увидеть, что Прометей, и его вина, и его боги – просто сложносоставная картина собственной человеческой шизофрении? <...> Без Живого Бога (без центра) люди становятся маленькими беспомощными богами, заключенными в четырех стенах собственной слабости и страха [Merton 1999, 23].
Прометей Эсхила, напротив, дает представление о человеке, противоположное гесиодовому варианту мифа. У Эсхила Прометей – это тот, кто, украв у богов огонь и отдав его людям, дарит им надежду, восстает против порядка богов и в первую очередь Зевса, являющегося, согласно этой версии, хитрым и злобным тираном, навязывающим свою волю человечеству. В отличие от Прометея Гесиода, героем Эсхила движет не желание навязать себя людям, распоряжаясь даром жизни, а отречение от себя вследствие чистой любви к людям. Он принимает дар жизни и дарит его другим. В Прометее Эсхила Мертон видит человека, способного любить Бога и благодарить Его за то, что ему выпало, свободного от склонности быть рабом самого себя. Таким образом, для Мертона «Прометей» Эсхила – это уход от негативного мифа о Прометее Гесиода и пример жизненного выбора для современного человека.
Подробнее о версии Эсхила мы поговорим в разделе, посвященном сравнению образа Прометея с образом Юрия Андреевича Живаго. Однако прежде чем сопоставлять эти два образа, считаем необходимым обратить внимание на следующее.
Процесс постепенной утраты «центра» современным человеком, согласно Мертону, уходит своими корнями в эпоху Возрождения, когда Бог был «заключен в скобки» и человек начал восприниматься как личность, центром мироздания которой становится «Я». Если мы не рассматриваем Бога как идеалистическое измерение, созданное человеком и его мыслью, а, напротив, считаем Его составной частью человеческого существа, без которого сам человек не мог бы быть подлинным человеком, нам легче понять последствия идеи, согласно которой можно обойтись без «божественного» измерения человека и которая сводит широту и сложность человеческой природы к «Я». По словам Мертона, в эпоху Возрождения все более укреплялось представление о человеке как о существе, которое отличается от других тем, что способно к самореференции. Версия мифа Гесиода о Прометее представляет идеальный образ человека, чья главная ошибка состоит в том, что он видит себя центром существования и, следовательно, может действовать исключительно по своей воле. Мертон усматривает в концепции человека как изолированного существа – жертвы самого себя и своей воли – источник всех величайших злодеяний, совершенных им: «Когда христиане начали смотреть на Христа как на Прометея (в Гесиодовой версии – Э.Б.) <…>, они оправдали войну, потом они оправдали крестовые походы, потом они оправдали погромы, потом они оправдали Аушвиц, потом они оправдали [атомную] бомбу, а потом они оправдали Страшный суд» [Merton 1985, 24].
Образ современного человека, который создает монах-траппист, трагичен, так как человек, раб богов, созданных им самим, не хочет уступать свою личность (огонь) Богу живых. Это обусловлено его незнанием того, как отдавать себя. Огонь (образ дара) по своей природе нуждается в возврате. Нам представляется, что, возможно, монах исходил из христианской традиции понимания дара, наиболее явно выраженной в притче о талантах (Мф. 25:14–30): раб, получивший один талант, посчитал его собственностью и распорядился им по-своему. Без акта реституции (возвращения) полученного дара человек живет не настоящей жизнью. Такова человеческая природа, предполагающая способность отдавать себя другим. Анализ «Прометея» Мертона выявил основные черты ситуации современного человека, как ее видит монах-траппист.
Концепция личности у Бориса Пастернака
Перейдем к анализу романа «Доктор Живаго» и постараемся показать, что идея человека у Пастернака сходна с идеей Мертона и находит свое воплощение в образах романа. Кроме того, в художественном мире Пастернака идея человека выражена более отчетливо и ярко, чем у Мертона. В рамках настоящего исследования мы сосредоточим внимание лишь на некоторых персонажах – это Микулицын, Гордон, Дудоров и Стрельников, которые, при всех своих различиях, восходят к образу Прометея Гесиода, представленному Мертоном. Образ Юрия Живаго, напротив, во многом перекликается с образом Прометея Эсхила.
Начнем с такого персонажа, как Ливерий Аверкиевич Микулицын. Фигура Ливерия важна в романе в той мере, в какой она дает картину большевистского менталитета – и, следовательно, представляет тип человека, исповедующего идеологию, очевидной противоположностью которой является мировоззрение Юрия Живаго. Качество Ливерия, которое отличает его от доктора и больше всего раздражает последнего, – это тенденция заменять реальность собственными идеями. Таким образом Ливерий проявляет насилие над жизнью, так как он не в состоянии принять реальность. Он хочет изменить ее по своему вкусу, в соответствии со своими идеями. Используя терминологию Мертона, можно сказать, что Ливерий не защищает и не охраняет «огонь» жизни, но, захватив его, считает, что может делать с ним все, что захочет, искажая и изменяя его. Он предпочитает «верить только в своих богов», а не подчиняться тому, что предлагает ему реальность. Ливерий настолько ослеплен собственным «Я» и идеологическими конструкциями, что даже не замечает огромной дистанции между своими взглядами и взглядами пленного доктора, с которым любит вступать в беседу. Юрий Андреевич поражается ограниченности Ливерия:
Нет, это неподражаемо! – думал доктор. – Какое младенчество! Какая близорукость! Я без конца твержу ему о противоположности наших взглядов, он захватил меня силой и силой держит при себе, и он воображает, что его неудачи должны расстраивать меня, а его расчеты и надежды вселяют в меня бодрость. Какое самоослепление! Интересы революции и существование Солнечной системы для него одно и то же [Пастернак 1989–1992, III, 333].
Концепция, согласно которой понятие человека сводится к простому «Я», такова: «Я» понимается как мера всех вещей. Это приводит человека к тому, что Пастернак называет «самоанализом». Эта тенденция к измерению себя, к «принятию мер», которая снижается в самоанализе, затрагивает не только личную сферу человека, но и все, что является чем-то внешним по отношению к нему. В концепции субъекта как чего-то первичного заложена мысль о том, что субъект постоянно пытается измерить себя и свое окружение, где «Я» задумывается как набор психических факторов, которые следуют друг за другом, а представление о реальности – как набор событий, регулирующим механизмом которых является причинно-следственный принцип. То, что у Мертона было лишь намечено, у Пастернака находит развернутое выражение в образе Ливе-рия Микулицына.
Если Мертон только упоминал о том, что человек без Бога является замкнутым в самом себе, то Пастернак в образе Ливерия Микулицына показывает сам процесс такого «самозамыкания». Ливерий не видит настоящей жизни, сложной связи явлений и подменяет их законами логики, когда после А непременно следует Б. Именно поэтому Живаго кричит Ливерию Микулыцину: «Я скажу а, а бе не скажу, хоть разорвитесь и лопните» [Пастернак 1989–1992, III, 405]. Человек полагает, что его собственная природа и природа окружающего мира подлежат постоянному измерению. В таком представлении о мире нет места тому, что Пастернак называет неожиданным, непредсказуемым, экстраординарным – чудом. Этот механический процесс, жертвой которого становится субъект, повергает его в постоянное, скрытое несчастье, поскольку, согласно Пастернаку, человек по своей природе не является существом, заключенным в себе. В отличие от Мертона, Пастернак переходит от субъективного понимания человека к общечеловеческому. Он полагает, что «самое субъективное <…> есть общечеловеческое» [Пастернак 1989–1992, III, 187]. Это значит, что индивидуальность человека представляет собой постоянную связь с окружающим миром.
Жертва самоанализа, субъект, вместо того чтобы восстановить свое подлинное «Я» в постоянном взаимодействии с окружающим миром, обезличивает себя, что не означает освобождения себя от других. Напротив, человек оказывается в большей замкнутости в себе, осложненной смещением вовне по отношению к своей подлинной субъективности. Таким образом, человек теряется в посредственности, потому что «безличье сложнее лица» [Пастернак 1989–1992, IV, 156]. Так, в романе «Доктор Живаго» мы читаем: «Хорошо, когда человек обманывает ваши ожидания, когда он расходится с заранее составленным представлением о нем. Принадлежность к типу есть конец человека, его осуждение. Если его не подо что подвести, если он не показателен, половина требующегося от него налицо. Он свободен от себя, крупица бессмертия достигнута им» [Пастернак 1989–1992, III, 292].
Именно Ливерий является воплощением типа советского человека, который сводит мыслительную деятельность к простому механистическому расчету, а реальность – к машине, которой можно управлять. В свою очередь, Дудоров и Гордон представляют людей, которых можно охарактеризовать как посредственных. Какое значение приобретает посредственность в слова- ре Пастернака? «Под посредственностью обычно понимают людей рядовых и обыкновенных. Между тем обыкновенность есть живое качество, идущее изнутри… Всего обыкновеннее люди гениальные… Необыкновенна только посредственность» [Пастернак 1989–1992, III, 78]. Следовательно, Пастернак противопоставляет такие понятия, как «посредственность» и «обыкновенность», которые обычно смешивают. Необычный или исключительный характер посредственности происходит из склонности человека считать себя особенным, то есть отложить в сторону свою обыденность, свое личное качество, свое реальное лицо и отдать предпочтение лицу, которое ему не принадлежит.
Проанализируем образ Гордона, который может быть ассимилирован с образом Прометея Гесиода. Он чувствует необходимость стать человеком в подлинном смысле, подлинным самим собой и, таким образом, быть близким к жизни, но вместе с тем «шахматная» концепция себя заставляет его стать «неуверенным в себе, в своих дарах и силах, отчужденным, но готовым утвердить себя» [Merton 1989–1992, C. 6]. Живаго знал Гордона с детства и наблюдал изменения его личности: «Гордон был хорош, пока тяжело мыслил и изъяснялся уныло и нескладно. Он был лучшим другом Юрия Андреевича. В гимназии его любили. Но вот он себе разонравился и стал вносить неудачные поправки в свой нравственный облик. Он бодрился, корчил весельчака, все время что-то рассказывал с претензией на остроумие, и часто говорил “занятно” и “забавно”, слова не из своего словаря, потому что Гордон никогда не понимал жизни, как развлечения» [Пастернак 1989–1992, III, 174].
В той же плоскости, что и образ Гордона, лежит и образ другого друга Живаго – Дудорова. Оказывается, что происхождение и воспитание не защищают человека от участи посредственности: «Гордон и Дудоров принадлежали к хорошему профессорскому кругу. Они проводили жизнь среди хороших книг, хороших мыслителей, хороших композиторов, хорошей, всегда, вчера и сегодня хорошей, и только хорошей музыки, и они не знали, что бедствие среднего вкуса хуже бедствия безвкусицы» [Пастернак 1989–1992, III, 474]. Гордон и Дудоров не имеют собственного «центра», они не способны мыслить в соответствии с тем, что им диктует их личность, поскольку у них нет собственной личности, и чем дальше они находятся от своего «центра», тем больше они подвержены болезни своего времени – новой советской идеологии. Герой романа бессилен перед ними.
Однако не мог же он сказать им: “Дорогие друзья, о как безнадежно ординарны вы и круг, который вы представляете, и блеск и искусство ваших любимых имен и авторитетов. Единственно живое и яркое в вас – это то, что вы жили в одно время со мной и меня знали”. Но что было бы, если бы друзьям можно было делать подобные признания! И чтобы не огорчать их, Юрий Андреевич покорно их выслушивал [Пастернак 1989– 1992, III, 476].
Посредственность Дудорова и Гордона выразилась в «избитости» мышления, «стереотипности», «подражательности прописных чувств» [Пастернак 1989–1992, III, 476].
Гордон и Дудоров – типичные представители советской интеллигенции. Они противостоят доктору: «Юрий Андреевич не выносил политического мистицизма советской интеллигенции, того, что было ее высшим достижением или, как тогда бы сказали, – духовным потолком эпохи» [Пастернак 1989–1992, III, 476]. Пастернак подчеркивает, что доктор не мог жить без «центра», то есть без Бога, подменив христианское мировоззрение тем, что он называет «политическим мистицизмом советской интеллигенции». Жить без «центра» – значит стать как все, утратив индивидуальность.
Еще один образ романа, который можно соотнести с образом Прометея Гесиода (по Мертону), – Стрельников. Павел Антипов, тот, кто под именем Стрельникова становится убийцей на службе советской системы, в начале романа еще молодой, застенчивый и сдержанный человек. По мере взросления он обретает уверенность в себе.
Общие впечатления об этом персонаже в основном положительные. Это человек умный, талантливый, честный, справедливый, внимательный, имеющий большую склонность к учебе. «Так действовало присутствие одаренности, естественной, не знающей натянутости, чувствующей себя, как в седле, в любом положении земного существования. Этот человек должен был обладать каким-то даром, не обязательно самобытным. Дар, проглядывавший во всех его движениях, мог быть даром подражания» [Пастернак 1989–1992, III, 272]. Какие перемены произошли в Павле Антипове? Став взрослым, он понимает, что мир – это не та арена, на которой сражаются честно, как он думал раньше. Вместо того чтобы признать ошибочность своих оценок и смириться с реальностью, Стрельников отдается развращающему воздействию разочарования и становится жестоким. Для него революция превращается в способ отомстить за несправедливость устройства прошлого мира. Болезнь, от которой страдает Павел Антипов, – это месть: он хочет отомстить за свою жену. Для этого он вырабатывает в себе такое качество, как воля. Всем «сразу становилось ясно, что этот человек представляет законченное явление воли. Он до такой степени был тем, чем хотел быть, что и все на нем и в нем неизбежно казалось образцовым» [Пастернак 1989–1992, III, 251]. Однако Павел Антипов совершил ошибку, полагая, что он может своей волей и собственными силами добиться справедливости. Таким образом, он потушил «огонь», скрыл божественный дар – свой интеллектуальный потенциал и нравственные качества, подчинив идеологии свою жизнь и свой дух. Повреждение личности произошло вследствие его слепоты и неспособности очистить ум и сердце от ложных принципов и идей.
Образ Стрельникова противопоставлен образу Юрия Живаго. Стрельников – человек, действующий во имя собственной воли, а Юрий Андреевич, напротив, является человеком, суть которого определяется способностью отказаться от личной воли. Эти образы воплощают в романе две противоположные модели человека. Главное свойство личности Живаго, делающее его поэтом и человеком в полном смысле этого слова, состоит в том, что он не допускает насилия ни над собой, ни над реальностью. То качество, которое отличает Юрия Андреевича от других, заключается в том, что он отказывается от любых претензий на власть или самоутверждение, он склонен слушаться «голоса жизни, звучащего в нас» [Пастернак 1989–1992, IV, 367]. Характер главного героя романа определяется его способностью к самопожертвованию. В его представлении душа личности не есть что-то, принадлежащее самому человеку, что тот может изменить, душа – это дар. Такой дар подразумевает в своей глубочайшей и сокровенной сущности взаимодействие с другими, поскольку феномен «других» не формируется как нечто, отделенное от субъекта, а является его составной частью. Подлинное «Я» – это универсальное «Я»: «Не сам он, а что-то более общее, чем он сам, рыдало и плакало в нем нежными и светлы- ми, светящимися в темноте, как фосфор, словами. И вместе со своей плакавшей душой плакал он сам» [Пастернак 1989–1992, III, 234]. Только имея такие представления о человеческой личности, Живаго мог произнести знаменитые слова, адресованные приемной матери, когда она находилась при смерти:
Итак, что будет с вашим сознанием? Вашим. Вашим. А что вы такое? В этом вся загвоздка. Разберемся. Чем вы себя помните, какую часть сознавали из своего состава? Свои почки, печень, сосуды? Нет, сколько ни припомните, вы всегда заставали себя в наружном, деятельном проявлении, в делах ваших рук, в семье, в других. А теперь повнимательнее. Человек в других людях и есть душа человека. Вот что вы есть, вот чем дышало, питалось, упивалось всю жизнь ваше сознание. Вашей душою, вашим бессмертием, вашей жизнью в других. И что же? В других вы были, в других и останетесь. И какая вам разница, что потом это будет называться памятью. Это будете вы, вошедшая в состав будущего [Пастернак 1989–1992, III, 70].
В этом монологе доктор пространно говорит о том, что является сущ-но стью человека, – о его деятельной связи с другими людьми.
Образ Юрия Живаго близок образу Прометея Эсхила, по скольку они оба крадут огонь у богов, чтобы подарить его другим, а не держать при себе. Жизнь воспринимается ими как готовность и способность жертвовать собой ради других. Жизнь Юрия Андреевича, как и жизнь Прометея Эсхила, по Мертону, – это жизнь, принесенная в жертву ради божественного дара – у Пастернака это дар поэзии. Ночью в Варыкине, когда доктор снова взялся за стихи, дописывая старые и начиная новые, он понял свое назначение – быть инструментом языка поэзии. «В такие минуты Юрий Андреевич чувствовал, что главную работу совершает не он сам, но то, что выше его, что находится над ним и управляет им, а именно: состояние мировой мысли и поэзии, и то, что ей предназначено в будущем, следующий по порядку шаг, который предстоит ей сделать в ее историческом развитии. И он чувствовал себя только поводом и опорной точкой, чтобы она пришла в это движение» [Пастернак 1989–1992, III, 431].
Таким образом, человек понимается в романе не как существо, основным качеством которого является самореференция, но как проводник божественного дара. Эта тема находит отражение и в поздней лирике Пастернака. В стихотворении «В больнице» Пастернак пишет, обращаясь к Богу:
Мне сладко при свете неярком, Чуть падающем на кровать, Себя и свой жребий подарком Бесценным твоим сознавать.
Кончаясь в больничной постели, Я чувствую рук твоих жар.
Ты держишь меня, как изделье, И прячешь, как перстень, в футляр [Пастернак 1989–1992, II, 145].
Лирический герой воспринимает себя, поэта, и как «продукт» Божьего творения, и как инструмент Творца, свою же участь расценивает как полученный от Него подарок. Соответственно, смысл искусства для Мертона и Пастернака соотносится не столько с созданием художественных шедевров, сколько с умением художника слышать и принимать жизнь.
Итак, концепция человека как существа, самым сокровенным и радикальным жестом которого является благодарность и способность к самоотдаче, концепция жизни как подарка лежит в основе как антропологии и теологии Пастернака, так и теологии Томаса Мертона. И Мертон, и Пастернак осознают, что современный мир забыл это фундаментальное свойство человеческого бытия, свойство, неразрывно связанное с тем глубинным качеством человеческой природы, которое прекрасно определяет Пастернак, – «не отступаться от лица». Если монах-траппист видит в образе эсхилова Прометея прообраз Христа, то есть человека, который смог пожертвовать собой, чтобы дать людям необходимое тепло (огонь), то Пастернак создает образ Христа в докторе Живаго – человеке, обладающем способностью исцелять людей от болезней своего времени через поэзию. Пастернак, в отличие от Мертона, более развернуто выражает идею благодарного приятия высшего дара в своем произведении «Доктор Живаго». Роман обогащает концепцию Мертона мыслью о том, что человек может отдавать себя людям, служа искусству: поэтическое вдохновение в восприятии Живаго – аналог божественного огня, полученного в дар Прометеем. Пастернак пишет: «Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех» [Пастернак 1989–1992, II, 86]. Таким образом, и Мертон, и Пастернак выделяют главное качество человека – быть «усердным в дарении» [Eschilo 2017, 32], то есть в том, чтобы отдать себя другим.
Список литературы "Прометей. Медитация" Томаса Мертона и "Доктор Живаго" Бориса Пастернака: диалог идей
- Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. С. 297-325. EDN: YMWITZ
- Евангелие от Матфея. Богословско-экзегетический комментарий. 1 и 2 тома. М.: ББИ, 2023. 465 с.; 384 с.
- Мертон Т. Поэма "Прометей" - подарок Борису Пастернаку от Томаса Мертона /пер. В. Белькинд, с предисловием Е. Ванеян // Пастернаковский сборник - III. Статьи, публикации, воспоминания /сост. Е.В. Пастернак, А.Ю. Сергеева-Клятис, И.А. Ерисанова, Е.Б. Лурье. М.: Литературный музей, 2020. С. 220-226.
- Пастернак Б. Собрание сочинений: в 5 т. М.: Художественная литература, 1989-1992.
- Поливанов К. "Доктор Живаго" как исторический роман. М.: Новое литературное обозрение, 2024. 376 с.
- Eschilo. Prometeo incatenato. Milano: Rizzoli, 2017. 157 р.
- Merton T. Hidden Ground of Love. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1985. 669 р.
- Merton T. The New Man. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1999. 384 р.
- Merton T. Prometheus: A meditation // Merton T. Raids on the Unspeakable. New York: New Directions. 1966. Р. 79-91.
- Pearson P.M. Preface // The Letters of Thomas Merton and Victor and Carolyn Hammer: Ad Majorem Dei Gloriam. Kentucky: University Press of Kentucky, 2014. P. 5-13.