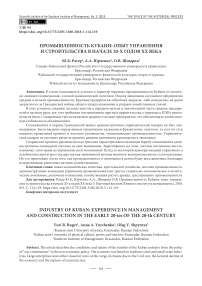Промышленность Кубани: опыт управления и строительства в начале 20-х годов ХХ века
Автор: Рагер Юрий Борисович, Юрченко Анна Андреевна, Шпырня Олег Валентинович
Журнал: Научный вестник Южного института менеджмента @vestnik-uim
Рубрика: Пространство исторического процесса
Статья в выпуске: 3 (23), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье описываются условия и характер перевода промышленности Кубани от политики «военного коммунизма» к новой экономической политике. Основу экономики составляли предприятия средней и мелкой промышленности. Крупные предприятия либо были закрыты, либо находились на грани закрытия из-за Гражданской войны, общего упадка экономики и разрыва хозяйственных связей. В этих условиях создание системы трестов и передача мелких и значительной части средних предприятий в частные руки, как того требовали постановления партии и правительства, о переходе к НЭПу выполнены не были. Создаваемые тресты включали средние и мелкие предприятия, что обеспечивало хозяйственную стабильность объединениям. Сложившийся в период Гражданской войны административно-управленческий аппарат не был ликвидирован. Были введены определенные ограничения касавшиеся фразеологии, лозунгов, то есть по сути внешних проявлений прямого и жесткого руководства, «командования» промышленностью. Управленческий аппарат не растерял рычагов прямого административного руководства в экономике...
Новая экономическая политика, крестьянское хозяйство, местная промышленность, административно-командное управление промышленностью, тресты, социально-экономическое и политическое положение, рыночные отношения, хозяйственный расчет, аренда, трестирование промышленности
Короткий адрес: https://sciup.org/143165894
IDR: 143165894 | УДК: 94 | DOI: 10.31775/2305-3100-2018-3-114-119
Текст научной статьи Промышленность Кубани: опыт управления и строительства в начале 20-х годов ХХ века
For сitation: Ruger Yu.B., Yurchenko A.A., Shpyrnya O.V. Industry of Kuban: experience in management and construction in the early 20-ies of the 20th century. Scientific bulletin of the Southern Institute of Management. 2018;(3):114-119. (In Russ.) – 3100-2018-3-114-119
There is no conflict of interests
Крестьянское хозяйство на Кубани в условиях НЭПа, перейдя на рыночные условия хозяйствования, получило толчок в развитии, что не могло, не отразиться на развитии местной промышленности. Кубанская местная промышленность была представлена небольшими маслобойнями, среди которых не было фактически так называемых цензовых предприятий, то есть предприятий с количеством, работающих более 6 тысяч человек при наличии машинной тяги или 12 человек без нее. Это производство целиком зависело от благополучия крестьянского двора. Сельскохозяйственное производство маслосемян на Кубани до 1 мировой и Гражданской войн составляло не менее 30 процентов от всего аграрного производства. Кубань тогда уверенно лидировала в производстве растительного масла в российской империи. Более того, обладая удобными морскими портами и высококачественным продуктом, был налажен экспорт данной продукции. Более 60 процентов экспорта растительного масла и сопутствующих ему продуктов (например, саломаса) России поставлялись Кубанью [10].
Отсутствие по настоящему крупной промышленности на Кубани (цементная промышленность Черноморья фактически стояла, в 1923 г. действовало лишь два Новороссийских завода) при высоком аграрном развитии области наряду с политическими, социальными и сословными причинами создавали свой колорит местной стратегии и тактики реформ. Сложность заключалась в том, чтобы определить какие предприятия отдавать частнику, а какие оставлять государству. Простой с первого взгляда вопрос.
В 1922-1924 гг. крестьянское хозяйство переживает новый подъем, а вместе с ней оживляется и маслобойная промышленность. Правда, условия ее существования несколько иные, чем прежде. Проведенная в 1922-1923 годах передача государственной собственности в частные руки создала условия для роста частной инициативы. Переход осуществлялся на условиях передачи предприятий в аренду. Проведенная с марта 1920 года вплоть до лета 1921 года национализация лишила собственников предприятий их собственности. При этом национализировалось фактически все вплоть до орудий труда кустарей (например, свечных заводов и сапожных мастерских). Подобная практика отражала особенности экономической политики прежде всего на Кубани, где очень сильны были в этот период троцкистские леворадикальные настроения. Обратный процесс также имел особенности.
Официальное введение в Кубано-Черномор-ской области новой экономической политики произошло летом 1921, когда на заседании пленума Ку-бано-Черноморского обкома РКП(б) был прочитан и обсужден доклад об «экономической политике и хозяйственном строительстве». В нем впервые рассматривался вопрос о введении НЭПа в данном регионе. Всестороннее обсуждение перехода к новой экономической политике было продолжено на 3-й Кубано-Черноморской областной партийной конференции. Основной задачей и мотивом введения этой политики было объявлено накопление продовольственных и топливных фондов.
Переход к НЭПу предполагал изменение структуры государственного управления промышлен- ностью. В частности, Кубано-Черноморский СНХ существенно урезался в правах. Функция управления сохранялась лишь для оставленной в руках государства промышленности. В дальнейшем и это руководство должно было смениться относительной хозяйственной самостоятельностью. Главной функцией СНХ становился контроль и наблюдение за переданными в аренду и частными предприятиями.
Следует заметить, что это была лишь предполагаемая перспектива. Реальность продолжала оставаться «военнокоммунистической».
Реальное положение промышленности и рабочих в 1921 году ухудшилось по сравнению с предшествующим годом. Наблюдались попытки установить уравнительные внеэкономические гарантии. Государственным предприятиям вменялось в обязанность «...обеспечить натуральной заработной платой занятых в крупной промышленности рабочих (опыт коллективного снабжения) [8]. Однако они окончились неудачей.
Своеобразным показателем первых шагов новой экономической политики явились сводки о социально-экономическом и политическом положении в отделах Кубано-Черноморской области за декабрь 1921 г. Они дают представление об отсутствии реальных изменений в экономической политике и об ухудшении экономического положения в регионе. В сообщении по второму рай-парткому г. Краснодара отмечалось ухудшение настроения рабочих и падение производительности труда, которые были вызваны «…несвоевременной и низкой оплатой труда, нерегулярной выдачей продовольствия». Кроме того, по-прежнему продолжали практиковаться уравнительная оплата труда (сдельщина была отменена) и понижение ставок с увеличением норм выработки [5]. Еще более неутешительной была сводка по новороссийскому отделу. В ней отмечалось недовольство рабочих появившейся безработицей [14].
Обострившаяся политическая борьба и сложившееся экономическое положение заставляют власть начать активный переход к НЭПу.
В этих условиях формировалась общая стратегия реформ НЭПа и ее особенности в Кубано-Черноморской области. В соответствии с «Наказом Совета Народных Комиссаров» о проведении в жизнь начал новой экономической политики от 9 августа 1921 года все предприятия были разделены на 3 группы. Эта работа возлагалась на своеобразный межведомственный орган «Экономическое совещание» – ЭКОСО. Его права и обязанности, а также состав участников детально были обсуждены в июле 1921 года [4]. К этому времени ЭКОСО уже около месяца существовало. Экономическое совещание должно было стать координирующим органом. Ему вменялось в обязанности руководство экономической жизнью области, контроль за работой всех промышленных предприятий. Как показывают факты, работу по конкретной подготовке к реформированию промышленности хозяйственные органы под руководством ЭКОСО начинают лишь в октябре 1921 года, а первые шаги по реорганизации управления в подчиненности промышленности делаются в январе 1922 года.
Весь процесс изменений представлялся таким образом. Первая группа предприятий оставалась в руках государства – это крупные и наиболее ценные заведения. Вторая, – передаются в аренду, и третья группа предприятий подлежала денационализации через передачу их кооперативам и частным собственникам.
Проблема трестирования и перевода государственных предприятий на хозяйственный расчет на Северном Кавказе впервые была поднята на съезде представителей крупнейших предприятий и производственных отделов Промбюро и СНХ Юго-Востока России. Он проходил в ноябре 1921 г. Здесь было определено количество и состав создаваемых объединений. В связи с этим выделены две формы объединений – областные объединения и краевые. И определено количество, и отраслевое разграничение трестов Кубано-Черноморской области [15].
Отсутствие по-настоящему крупной промышленности на Кубани (цементная промышленность Черноморья фактически стояла, в 1923 г. действовало лишь два Новороссийских завода) [6] при высоком аграрном развитии области наряду с политическими, социальными и сословными причинами создавали свой колорит местной стратегии и тактики реформ. Сложность заключалась в том, чтобы определить какие предприятия отдавать частнику, а какие оставлять государству. Простой с первого взгляда вопрос было довольно не просто (т.е. с максимальной выгодой) решить. Крупная и средняя промышленность таких отраслей как машиностроение, металлообработка, кожевенная, поташная – были убыточны, и их оставление на балансе государства не сулило ничего кроме расходов и дефицитности местного бюджета.
С другой стороны, мелкая и мельчайшая промышленность обрабатывающей отрасли, подлежащая передаче в частные руки, была прибыльной и высокорентабельной.
Процесс передачи предприятий в аренду, превращения их в частные и создание новых негосударственных предприятий шел параллельно процессу трестирования. В Кубано-Черноморской области за государством были оставлены не только крупные, но и значительная часть мелких предприятий. Все они вошли во вновь создаваемые тресты.
По мнению некоторых местных руководителей, вся промышленность должна была управляться чисто рыночными законами. В своей речи на седьмой областной партийной конференции Куба-но-Черноморья проходившей 19-21 декабря 1923 г. секретарь обкома Анс Аболин [12] подчеркивал тупиковый характер прежней «военнокоммунистической» экономической политики. Он указал на вред чрезмерной централизации управления промышленностью, забвения принципов материального стимулирования и роста бюрократического аппарата. Он призывает приспосабливаться к новым условиях, а не пытаться их изменить по своему желанию: «…не будучи в силах упразднить рынок, не можем жаловаться, что рынок имеет свою логику. Экономические законы отменить никому не дано» [7].
Процесс реорганизации проходил в несколько этапов и продолжался все 20-е годы.
Первоначальная реорганизация, поставившая промышленность и экономику в целом в новые условия, была проведена быстро. Уже в мае 1922 г. промышленность предстала формально преобразованной [1]. Дальнейшие реформы существенно не изменили структуру управления и распоряжения промышленностью.
При перераспределении полномочий органы экономического управления руководствовались, помимо «Наказа …», постановлением СТО от 12 августа 1921 года, по которому вся государственная промышленность, не сдаваемая в аренду и не подлежащая передаче в частные руки, объединялась в тресты и должна была действовать на началах хозрасчета. В связи с этим, процесс передачи в аренду, в частные руки и ликвидации предприятий шел параллельно процессу трестирования. Таким образом, вся промышленность, по замыслу руководства должна была перейти на рыночные условия существования.
В окончательном виде промышленность оказалась разделенной на четыре группы: государственную, арендную, законсервированные или ликвидированные предприятия и частные предприятия. В Кубано-Черноморской области за государством, как уже было сказано, были оставлены не только крупные, но и значительная часть мелких предприятий (последние были прибыльны, в отличие от крупных предприятий, и местное руководство не хотело их отдавать частникам). Все они вошли во вновь создаваемые тресты. Это повысило их эффективность как хозяйствующих субъектов. Что было немаловажно в условиях перехода к хозяйственному расчету, то есть экономической само- стоятельности. Но при этом возможный потенциал роста и развития местной промышленности был существенно снижен. Отсюда довольно скромные результаты преобразований и как следствие критика НЭПа за низкую эффективность. В конце 20-х годов НЭП сворачивался во многом потому, что не оправдал ожиданий.
Своеобразие реформирования экономики в рамках НЭПа в области сказалось на самом процессе трестирования. Всего к октябрю 1922 г. было создано 18 трестов в составе 67 предприятий [3]. Создаваемые тресты лишь по названию являлись таковыми. В каждом было не более одного относительно крупного предприятия. Отсутствие правовой основы их существования дало возможности Кубано-Черноморскому Совнархозу, во главе которого стоял Кочетов, управлять ими как прежде. По областным масштабам значительное количество трестов – 18 создавало неразбериху и плодило громадный управленческий аппарат. На четырех рабочих приходился один служащий [2]. Качественный состав работающих в трестах был невысокий. С высшим техническим образованием в каждом тресте было не более одного максимум двух работников. Это обуславливало как их слабую эффективность, так и бесконечно длившийся процесс реорганизации в сторону укрупнения. Помимо этого, шла непрерывная чехарда переподчинения. Предприятия то изымались из ведения местных органов, то вновь входили под управление Кубано-Черномор-ского СНХ.
В условиях перехода к реформам кардинально ставится вопрос о самом понимании управления промышленностью. Старое понимание, подразумевающее непосредственное руководство, сменяется некоей двойственной позицией. Её можно охарактеризовать так – теоретически за реформы в управлении, но практически против них. «Государство вынуждено принять, что те принципы, которые положены в основу организации промышленности в первый период, не соответствуют данному моменту, и, как основной принцип в построении промышленного аппарата вводит начало самоокупаемости и как следствие этого хозяйственный и коммерческий расчет» [10,11,13].
Сложившийся в период Гражданской войны административно-управленческий аппарат не был ликвидирован. Были введены определенные ограничения касавшиеся фразеологии, лозунгов, то есть по сути внешних проявлений прямого и жесткого руководства, «командования» промышленностью. Однако в условиях и под натиском новой экономической политики и объективных социальноэкономических обстоятельств ничего, по сути, не изменилось. Управленческий аппарат не растерял рычагов прямого административного руководства в экономике, это во многом и объясняет довольно быстрое и «эффективное» свертывание НЭПа в недалеком будущем [16,17].
Сохранение прямого руководства над трестами характеризовало активную борьбу сложившейся административно-командной системы за свое выживание. Закрепившись на этом, система постепенно восстанавливает свои права на управление всей экономикой. Вслед за некоторой демократизацией управления и ослаблением диктатуры государства над экономикой методы военного коммунизма вновь стали ведущими. Но это произойдет после того, как промышленность и экономика в целом будет восстановлена благодаря использованию рыночных методов хозяйствования [9].
Список литературы Промышленность Кубани: опыт управления и строительства в начале 20-х годов ХХ века
- ГАКК, Ф.Р.-143, оп.3, д.55, л.76.
- ГАКК, Ф.Р.-143, оп.3, д.176, л.10.
- Доклад о промышленности (Бюллетень VI Кубано-Черноморской областной конференции РКП (б) 22 -23 марта 1923 г -ЦДНИКК, Ф.1, оп.1, д.292, л.21. об.
- Копии декретов, постановлений, приказов и протоколов ВЦИК и СНК, ВСНХ, КЧСНХ и Промбюро Юго-Востока России: о порядке работы промышленных предприятий, о переводе их на хозяйственный расчет. -ГАКК. Ф.Р. -143, оп.2, д.1, л.51.
- Краснодарский горком ВКП б). ЦДНИКК, Ф. 1072, оп.1, д.1, л.4.
- Латкин В. Сын латышского батрака//Политический собеседник. Краснодар, июнь 1989 г. С. 29-32. ЦДНИКК, Ф. 1, оп.1, д.402, л.1-3.
- Материалы к докладу по организации промышленности -ГАКК, Ф.Р.-143, оп.3, д.137, л.16.
- Протоколы заседаний пленума областкома РКП (б)ю. Протокол № 3 заседания Пленума Кубано-Черноморского областного комитета РКП (б) 1719 июня 1921 г. ЦДНИКК, Ф.1, оп.1, д.52, л.31а-39.
- Рагер Ю.Б. Восстановление экономики Кубано-Черноморской области после Первой мировой и Гражданской войн//Научные труды Кубанского государственного технологического университета. 2016. №9. С. 227-236.
- Рагер Ю.Б. История национальных отношений: немцы-колонисты на Кубани//Вестник Калмыцкого университета. Серия «Гуманитарные науки». 2018. № 3/2. С. 35-41.
- Рагер Ю.Б. Проблемы развития промышленности Кубани и Черноморья в годы НЭПа (19211928 гг.): дисс.. канд. ист. наук по специальности 07.00.02. Краснодар: Кубанский государственный университет, 1995. 216 с.
- Стенограмма УП областной партийной конференции 1923. -ЦДНИКК, Ф.1, оп.1, д.297, л.38.
- Стенограмма областного съезда отдельных уполномоченных. 13 июля -21 августа 1922 г. ГАКК, Ф.Р.-143, оп.3, д.50, л.8.
- Черноморский (Новороссийский) окружком ВКП (б) оп.1, д.414, л.3.
- Черников В.Н. Проведение национализации и начало восстановления цементной промышленности Кубано-Черноморской области. В сб. Великий Октябрь и первые соц. экономические преобразования на Кубани: г. Краснодар, 1974. С.31.
- Юрченко А.А., Рагер Ю.Б., Белушенко В.С. Историко-географический аспект развития территориально-производственных комплексов в Краснодарском крае//Сборник научных трудов Наука и образование в XXI веке: по материалам Международной научно-практической конференции: в 2 частях. Москва.: ООО «АР-Консалт», 2018. С. 155-162.
- Юрченко А.А., Рагер Ю.Б., Белушенко В.С. Территориальная организация и размещение промышленных зон в Краснодарском крае//Сборник статей Единство и идентичность науки: проблемы и пути решения: по материалам международной научно-практической конференции (Тюмень, 08.02.2018) в 2 ч. Ч.2. Стерлитамак: АМИ, 2018. С. 13-20.