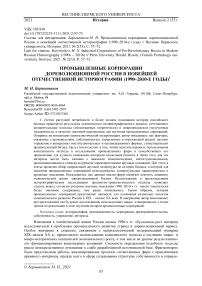Промышленные корпорации дореволюционной России в новейшей отечественной историографии (1990-2010-е годы)
Автор: Барышников М.Н.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Человек, власть и технологии в экономической истории
Статья в выпуске: 2 (53), 2021 года.
Бесплатный доступ
С учетом растущей потребности в более полном понимании истории российского бизнеса приводятся результаты комплексного историографического анализа, сочетающего концептуальные подходы (обоснованные теоретически) и микропоказатели (полученные эмпирически), в качестве значимой перспективы для изучения промышленных корпораций. Опираясь на концепцию капиталистической модернизации, автор показывает, как факторы, связанные с производством, собственностью, управлением и окружающей средой, находят отражение в конкретных институциональных и организационных формах, стимулирующих промышленный бизнес. Цель статьи состоит в том, чтобы осветить важность использования комплексного подхода в исследовании промышленных фирм и способствовать его применению для лучшего понимания интересов владельцев бизнеса, а также того, как эти интересы могли быть связаны с важными экономическими, институциональными, организационными и социокультурными характеристиками крупных компаний. Для этого в статье проведен обзор современной научной литературы по истории бизнеса, в которой для описания промышленных корпораций использовались концептуальные характеристики и архивные изыскания. Показывается, как данный анализ фирм помогает осветить динамику экономической жизни дореволюционной России. Использование в представленном историографическом исследовании предметно-хронологического подхода позволяет сделать вывод, согласно которому научные изыскания 1990-2010-х гг. имели тематически более значимое содержание, чем ранее описывалось. Таким образом, история промышленных корпораций представляет важность для понимания различных аспектов экономического развития России в XIX - начале XX века. В завершении автор высказывает ряд предложений для будущих исследований, использующих макро- и микроанализ, с точки зрения их реализации в ходе изучения истории промышленных корпораций.
Историография, промышленность, корпорации, предпринимательство, собственность, управление, интересы
Короткий адрес: https://sciup.org/147246369
IDR: 147246369 | УДК: 338:930 | DOI: 10.17072/2219-3111-2021-2-57-72
Текст научной статьи Промышленные корпорации дореволюционной России в новейшей отечественной историографии (1990-2010-е годы)
ния, особенностей выработки и реализации технико-технологических и инвестиционных планов применительно к той или иной ситуации внутри страны и за ее пределами, использования разнообразных комбинаций частных, общественных и государственных интересов в соответствии с реализуемыми стратегическими и оперативными направлениями работы предприятий. С другой стороны, отсутствовали согласованные позиции по ряду ключевых вопросов, в том числе о роли промышленных компаний в современном народном хозяйстве и, соответственно, их места в экономической истории России. И. В. Поткина оценивала развитие советской экономической истории как «волнообразную смену» в сущности только двух концепций (в рамках социал-демократической идеологии), по-разному трактующих пути развития России во второй половине XIX – начале ХХ в. [ Поткина , 1994, с. 32]. Звучавшее в дальнейшем мнение о том, что без историографического наследия, сформированного в период с 1957 по 1991 гг. советскими исследователями экономической истории России начала ХХ в., стали бы невозможными современные, накопленные уже в постсоветский период достижения [ Ланской , 2010, с. 491], сопровождалось подчеркиванием значимости конкретных результатов проделанной работы. Применительно к изучению российской промышленности конца XIX – начала ХХ в. отмечалось, что отличавшиеся наибольшей взвешенностью концептуального мышления авторы восприняли представленный в работах А. Л. Сидорова и старшего поколения его учеников тезис о достаточно ранней сформированности в этой сфере экономики черт развитого капитализма [ Ланской , 2015, с. 297]. Вместе с тем неоднозначность подходов к ситуации, складывавшейся в соответствующей исследовательской сфере, демонстрировала констатация того, что в 1990-е гг. имело место некоторое снижение интереса к проблематике социально-экономической истории как в российской, так и особенно в западной историографии [ Беспалов , 2014, с. 4–5]. Одной из наименее изученных и в данном отношении требовавшей дальнейшего научного осмысления оставалась история фирм. В первую очередь речь шла об акционерных компаниях, в значительной мере определявших индустриальное развитие России во второй половине XIX в. и в огромной мере (несмотря на масштаб социально-политических потрясений в стране) в начале ХХ в. Заметим, что в последующих историографических оценках обосновывалась точка зрения, согласно которой глубинные причины русских революций следует искать в успехах российской модернизации с сопутствующими им трудностями перехода от традиционного общества к индустриальному [ Петров , 2017(б), с. 11].
Обращаясь к заявленной проблематике, поясним, что исторически фирма возникла и развивалась как организация, призванная обеспечивать институциональное согласование индивидуальных и групповых предпочтений (в том числе в их хозяйственном, правовом, семейнородственном и этноконфессиональном содержании) в целях повышения эффективности предпринимательской деятельности (бизнеса). В широком контексте ее эволюция – это разработка и применение более сложных институциональных механизмов, предназначенных для нахождения и поддержания баланса интересов (собственников, рабочего персонала, инженерных и управленческих кадров, инвесторов, кредиторов и др.) в процессе достижения стратегических и оперативных целей развития частных предприятий – промышленных, торговых, банкирских, транспортных, страховых и т.д. По мере усложнения целей и задач, а также внешних условий деятельности происходило замещение неформальных институтов правовыми. В российской деловой практике данная тенденция проявлялась в эволюции организационных форм бизнеса от индивидуальных предприятий к партнерским фирмам (торговым домам) – товариществам полным и на вере – и при определенных обстоятельствах, прежде всего возраставшей потребности в инвестициях, к акционерным компаниям (корпорациям). Функционирование последних в виде товариществ на паях и акционерных обществ подразумевало использование разнообразных формальных регуляторов, призванных определять и в дальнейшем согласовывать широкий спектр интересов – частных, общественных и государственных. Сопутствующее складывание организационных конструкций, призванных реализовывать то или иное сочетание многочисленных предпочтений, подразумевало принятие конкретных институциональных форм их представительства. В конечном счете успех функционирования корпорации зависел от способности все более широкого круга лиц действовать в рамках согласованного баланса интересов, иначе говоря – от умения использовать его возможности ради достижения общих целей.
На рубеже 1990-х гг. актуализация исследований, затрагивавших в той или иной степени прошлое отечественных промышленных компаний, оказалась связана с возросшим интересом к участию государства в хозяйственной деятельности. Показывалось, что многообразие форм перестройки государственно-монополистического механизма лишь подтверждало тот очевидный факт, что трансформировавшийся капитализм в целом оказался способным к серьезным преобразованиям традиционных моделей государственного вмешательства в экономику [ Виноградов , Бородкин , 2008, с. 5]. В связи с этим отмечались конструктивные элементы в финансовоэкономической политике правительства накануне Первой мировой войны: в «новом прочтении государство методом проб и ошибок искало эффективные механизмы взаимодействия с предпринимателями» [ Петров , 2017(а), с. 234–235]. Стремление владельцев российских компаний найти более гибкие механизмы отношений с государством рассматривалось, в частности, на примере военной промышленности, в которой к началу 1910-х гг. имел место «своеобразный симбиоз» из казенного хозяйства и крупного частного капитала [ Шацилло , 1992, с. 256]. Значимость взаимодействия с властными структурами раскрывалась также на примере операций в нефтяной промышленности, прежде всего деятельности корпорации Нобелей [ Фурсенко , 2016, с. 474–481].
Ориентация многих частных предприятий на выполнение как казенных, так и гражданских заказов ставила вопрос о соотношении этих двух направлений в деятельности крупных корпораций в мирное время. В. И. Бовыкин применительно к реалиям экономического развития пореформенной России пояснял, что с конца 1880-х гг. самодержавие от насаждения отдельных, особо привилегированных, и таможенной защиты некоторых, менее покровительствуемых отраслей перешло к политике широкого поощрения развития промышленности вообще. Эта политика нашла свое выражение в таможенном тарифе 1891 г., завершившем создание системы усиленного протекционизма. Последняя в дальнейшем была дополнена мероприятиями, направленными на привлечение иностранных капиталов в российскую промышленность [ Бо-выкин , 2003, с. 25]. С учетом того, что долгие годы экономическая история в освещении советских историков и экономистов сводилась к действию обезличенных объективных сил, обоснованно указывалось на важность обращения к роли в этой истории личностного фактора, в том числе в процессе налаживания деловых связей между российскими и зарубежными бизнесменами [ Бовыкин , 1996, с. 23]. Видя в своей работе продолжение историографической традиции и вместе с тем подводя итог собственным, давно уже ведущимся исследованиям, группа историков (Н. Н. Гурушина, И. А. Дьяконова, С. В. Калмыков, В. Петерс, И. В. Поткина, М. К. Шацилло) во главе с В. И. Бовыкиным пришла к выводу о важной роли иностранного предпринимательства и заграничных инвестиций в экономических успехах страны. Вместе с тем с позиции признания факта того, что в начале ХХ в. промышленное развитие России приобрело уже «преимущественно интенсивный характер», подчеркивалось, что функционирование иностранного предпринимательского капитала в нашей стране могло быть успешным лишь при его интеграции в окружающую общественную, хозяйственную и правовую среду, с сопутствующим переплетением и сращиванием с отечественным капиталом [Иностранное…, 1997, с. 14, 316, 318].
В исследованиях первой половины 1990-х гг. звучал тезис о необходимости пересмотреть традиционные подходы, переосмыслить устоявшиеся стереотипы и вернуть истории, в том числе при рассмотрении места владельцев компаний в социально-экономической жизни России, «личностное» измерение. Интересным представлялся вывод А. Н. Боханова, согласно которому сфера операций частных предпринимателей была одной из немногих областей относительно «равных возможностей» [ Боханов , 1992, с. 224]. Тенденции в промышленном развитии страны с точки зрения усиления роли крупных и особенно крупнейших предприятий (как правило, обретавших форму корпораций), «известное своеобразие» этого процесса в отдельных отраслях и производствах (обработка хлопка, металлургия, металлообработка и машиностроение) изучала С. В. Воронкова. Усиление концентрации производства, как полагала автор, не означало абсолютного сокращения мелких предприятий; более того, сохранялся постоянный процесс их возникновения при одновременном увеличении размеров этих предприятий [ Воронкова , 1996, с. 142]. В трактовке другого исследователя, Г. Р. Наумовой, обретало особую важность изучение русской фабрики как явления материальной культуры, обусловленного социально-психологическими ценностями, имеющими традиционный характер [ Наумова , 1998].
Перспективность обращения к социокультурным, в том числе этноконфессиональным аспектам взаимодействия владельцев крупного бизнеса, последовательно обосновывалась в работах Б. В. Ананьича. На примере участия старообрядцев Рябушинских в банковских и промышленных операциях показывалось, что московский «патриотизм» не помешал представителям этой семьи поддерживать и развивать деловые связи со своими иностранными корреспондентами, среди которых были крупнейшие отечественные и европейские банки [ Ананьич , 1991, с. 127]. Вместе с тем история обогащения Рябушинских рассматривалась автором в контексте функционирования старообрядческого капитала, накапливаемого в результате не столько промышленных, сколько торговых операций [ Ананьич , 2001, с. 246]. Собственную позицию по данной проблеме изложил В. В. Керов, полагавший, что деятельность старообрядческих текстильных фабрикантов доказывала принципиальную возможность развития системы управления, реальность модернизации на основе православных ценностей, совмещаемых с использованием адаптированного опыта индустриальных стран [ Керов , 2004, с. 563]. По мнению В.И. Бо-выкина, общественно-экономический организм страны представлял собой единство противоположностей – передового и отсталого. В этом противоречивом единстве передовое, сочетаясь и переплетаясь с отсталым, вместе с тем явно стремилось к локализации, образуя отрасли народного хозяйства и географические районы, где господствовали достаточно зрелые формы капитализма [ Бовыкин , 2001, с. 45].
Значимым в плане подведения первых историографических итогов явился выход в свет двухтомного коллективного труда, посвященного истории отечественного предпринимательства в период от Средневековья до начала ХХ в. В работе фиксировалось, что уже в первой половине XIX в. наблюдалось активное «перелитие» частных капиталов в производственную сферу [ Семенова , 2000, с. 401]. Приведенные во второй книге обобщающие характеристики ряда проблем, в том числе правового обеспечения предпринимательства, его организационных форм, влияние международного фактора, направленности операций в железнодорожном строительстве (В. И. Бовыкин, С. В. Калмыков, И. В. Поткина, И. Н. Слепнев), а также участия в общественной жизни (Л. М. Епифанова, Л. В. Куприянова, Ю. А. Петров, М. К. Шацилло) и инициатив в филантропической и меценатской деятельности (М. Л. Гавлин, Г. Н. Ульянова), позволили, помимо прочего, значительно расширить пространство исследований по истории отечественных промышленных корпораций в пореформенную эпоху. Самостоятельный интерес представляла публикация С. В. Калмыкова, в которой, с использованием данных Т. Оуэна [ Owen , 1995], была охарактеризована направленность развития акционерных компаний в России во второй четверти XIX–начале ХХ в. [ Калмыков , 1999, с. 91–92].
В целом, даже при сохраняющемся концессионном (разрешительном) порядке учреждения акционерных компаний общая ситуация в деловом мире развивалась, как отмечает С. В. Калмыков, в направлении экономической организации, характерной для современного западного общества (т.е. корпоративной экономики) [Там же, с. 96]. Заметим, что близкую оценку высказывала И. В. Поткина, полагавшая, что, хотя концессионная система в стране сохранялась до 1917 г., тем не менее с конца XIX в. в законодательной практике появляются важнейшие элементы явочной системы, а само разрешение правительства становится более формальным по своему характеру [ Поткина , 2005, с. 333–340]. В монографиях, изданных в 2004 и 2009 гг., исследователь не только подтверждает ранее сформулированные выводы, но и значительно дополняет на конкретном материале, прежде всего архивном, свои оценки исторической перспективы акционерного дела в России.
Анализ эволюции законодательства на протяжении XIX – начала ХХ в. позволил И. В. Поткиной выявить «генеральную тенденцию» его развития, которая заключалась в несколько замедленной, но все-таки отчетливо выраженной либерализации правовых условий предпринимательской деятельности. «Эти титанические вековые усилия по разработке адекватного экономическим реалиям торгово-промышленного законодательства были молниеносно сведены на нет Октябрьской революцией 1917 г.» [Поткина, 2009, с. 278]. Изыскания в сфере правового регулирования деловых отношений были дополнены авторским исследованием (первым подобного рода по объему привлеченного материала и концептуальности высказанных идей) истории Товарищества Никольской мануфактуры. В монографии подчеркивалось, что крупная фирма «как объект изучения представляет огромный научный интерес… Эволюция фирмы как полноценная научная тема должна занять достойное место в отечественной науке и превратиться в магистральное направление истории российского предпринимательства» [Пот-кина, 2004, с. 322]. Оценивая результаты ранее проведенной российскими историками работы, И. В. Поткина делает важный вывод, согласно которому становление новой отрасли исторического знания (история фирм) должно было сопровождаться в первую очередь тщательным обследованием архивов, в которых сохранены документы по истории российского предпринимательства [Там же, с. 20].
Значимость привлечения архивного материала для изучения опыта функционирования промышленных корпораций нашла подтверждение, хотя и не всегда с близких позиций, в ряде публикаций. Для В. В. Поликарпова обращение к истории взаимоотношений казенных учреждений и руководителей Общества Путиловских заводов имело непосредственное отношение к критике взглядов американского историка Дж. Гранта, который в основу своей исследовательской схемы положил «актуальную идеологическую легенду о процветании российских предпринимателей, усвоивших законы деловой жизни в условиях свободной конкуренции и умевших выработать и провести удачную “стратегию”» [ Поликарпов , 2002, с. 42]. Собственную точку зрения представила Т. М. Китанина. Пример деятельности владельцев ряда крупных корпораций (Рябушинские, И. И. Стахеев, П. П. Батолин и др.), которые наладили прочные связи с финансовым капиталом и пользовались поддержкой в правительственных кругах, свидетельствовал о появлении деятелей «нового типа», новой генерации [ Китанина , 2007, с. 382].
В числе перспективных отметим также работы, посвященные социальному облику российских предпринимателей [ Шацилло , 2004], участию женщин, совладелиц фирм, в благотворительной и хозяйственной деятельности [ Ульянова , 1999], их месту в составе руководства (в качестве членов и глав правлений) акционерных предприятий и торговых домов [ Барышников , 2001]. Важным с точки зрения выводов явился выход в свет коллективного труда (Б. В. Ананьич, Д. Дальман В. В. Керов, С. К. Лебедев, П. В. Лизунов, Ю. А. Петров, Р. Р. Салихов, В. Сртор, Г. Н. Ульянова, Р. Р. Хайрутдинов, Д. Уэст, К. Хеллер, М. К. Шацилло), посвященного истории формирования этноконфессионального и регионально облика частного предпринимательства в России. Во введении к монографии при рассмотрении специфики отечественного предпринимательства подчеркивалось: «Асимметричное развитие экономики империи, национальные интересы и разная религиозная культура не могли способствовать единству российской буржуазии. Она развивалась в атмосфере внутренних противоречий. Это отразилось и на ее отношениях с самодержавной властью, и на поведении в период революционных событий в России в 1905–1907 и 1917 гг.» [ Ананьич , Дальманн , Петров , 2010, с. 11]. Исходя из этой позиции (добавим, достаточно дискуссионной), авторы обратились к детальному исследованию частного бизнеса в его отдельных основных составляющих – этноконфессиональных групп (на примере старообрядческого, мусульманского, еврейского и иностранного предпринимательства).
Первое десятилетие XXI в. явилось не только рубежным в процессе разработки новых подходов к изучению прошлого российской экономики, но и позволило определить исследовательское пространство, включавшее широкий спектр проблем по истории отечественного бизнеса XIX – начала ХХ в. [Виноградов, 2005, с. 9–11]. Одной из тем, в значительной мере затрагивавшей историю промышленных корпораций, стала деятельность отечественных бирж [Бородкин, Коновалова, Левандовский, 2001; Лизунов, 2002; Калмыков, 2006; Бородкин, Перельман, 2006; Бородкин, Коновалова, 2010]. Значимость обращения к данной проблематике подтверждалась обобщающим трудом Л. Е. Шепелева [Шепелев, 2006]. Согласно позиции П. В. Лизунова, российская экономика достигла к началу ХХ в. той ступени развития, когда биржа стала центром хозяйственной жизни, а не ее придатком [Лизунов, 2004, с. 496]. На фоне изменений в экономическом строе России наблюдалась возрастающая значимость сбалансированного подхода при ориентации отечественных компаний на эмиссионные операции и долговые заимствования. Речь шла, например, о партнерстве с банковскими структурами, принимавшими активное участие в финансировании промышленной сферы [Петров, 1998; Лебедев, 2003]. Влияние последних было особенно значительным в металлургии, машиностроении, железнодорожном строительстве. Они же служили посредниками между заграничными денежными рынками и российскими корпорациям [Кредит и банки…, 2008, с. 7–8]. В начале ХХ в., сохранив связи с промышленными компаниями, получив богатый опыт инвестиционной деятельности, столичные банки интегрировали эти операции в модель универсального банка. Потенциальная направленность ее реализации заключалась прежде всего в усилении клиентских сетей предпринимательского кредитования, а также в создании больших филиальных сетей [Саломатина, 2012, с. 285]. При этом констатировалось, что путь, пройденный банковской системой Российской империи, давал возможность с оптимизмом смотреть в будущее, если бы не Первая мировая война и Революция [Саломатина, 2018, с. 431].
Проблематика, связанная с особенностями индустриального развития Российской империи, являлась одной из тех, к которым активно обращались исследователи [ Бокарев , 2006; Бородкин , 2006; Арсентьев , 2010]. К числу ключевых относилось использование концепций теории модернизации для анализа изменений в промышленном потенциале как на общероссийском, так и на региональном уровне [ Алексеев и др., 2000; Бородкин и др., 2007]. Согласно позиции В. М. Арсентьева, уже в первой половине XIX в. «довольно стремительно» развивались частнокапиталистические и акционерные формы промышленного предпринимательства, знаменовавшие собой начало нового этапа индустриального развития России. Акционирование представляло собой одно из действенных средств аккумулирования капиталов, отраслевой, а в некоторых случаях и межотраслевой, интеграции. Вместе с тем акционирование способствовало территориальному рассредоточению и децентрализации для реализации проектов развития новых производств и перевооружения промышленности в масштабах всей страны [ Арсентьев , 2004, с. 260; Арсентьев , 2013, с. 24–36]. Значимость акционирования на региональном уровне применительно к пореформенному периоду подчеркивал Е. Г. Неклюдов. Именно за акционерными обществами, как полагает он, было будущее уральской горнозаводской промышленности, если бы в России сохранились условия для развития частного предпринимательства [ Неклюдов , 2013, с. 627]. По оценке В. А. Мау, особенности, характеризующие ускоренную модернизацию второй половины XIX – начала ХХ в., определялись преобладанием крупных индустриальных форм, массовым производством и экономией на масштабах, активным использованием конвейера в качестве стержня технологического процесса, что порождало в свою очередь масштабное вмешательство государства в процесс аккумулирования и перераспределения капитала от традиционных секторов экономики к приоритетным [ Мау , 2009, с. 368].
В 2008 г. вышел в свет двухтомный энциклопедический труд (руководитель проекта и ответственный редактор – Ю. А. Петров), подводивший историографические итоги проведенной работе в области историко-экономических исследований. Присутствующие в энциклопедии статьи касались различных сюжетов, характеризующих, помимо прочего, истоки, содержание и направленность развития отечественного бизнеса, в том числе в организационной форме крупных корпораций. Акционерные компании рассматривались как наиболее распространенная организационно-правовая форма объединения учредителей, вкладчиков и пайщиков крупных и средних торгово-промышленных предприятий, используемая с целью мобилизации денежных средств и создания значительных капиталов [ Лизунов , 2008, с. 60]. В контексте результативности работы корпораций интересным представлялся вывод, согласно которому в начале ХХ в. Россия находилась на передовых рубежах по уровню научно-технологического обеспечения промышленного роста, а отечественная промышленность по ряду отраслей (паровозостроение, производство дизель-моторов, теплоходостроение, самолетостроение) вышла на лидирующие позиции в применении научно-технических новаций к серийному производству [ Бовыкин и др., 2009, с. 416]. Данный тезис перекликался с результатами многолетних исследований Б.Н.Миронова, в соответствии с которыми социально-экономический и политический режимы, сложившиеся в России в результате Великих реформ 1860–1870-х гг. и Реформы 1905 г., в основе которых лежали частная собственность, рыночная экономика, гражданское общество и сильное правовое государство, обеспечивали хорошие возможности для успешного развития России [ Миронов , 2009, с. 149].
Несколькими направлениями научных изысканий характеризовались 2010-е гг., обращение к которым заметно обогатило теоретическое осмысление хозяйственной истории России. Наряду с активным использованием концепций теории модернизации в изучении социальноэкономической проблематики (работы В. В. Алексеева, Л. И. Бородкина, М. А. Давыдова, Б. Н. Миронова, С. А. Нефедова, И. В. Побережникова, Н. А. Проскуряковой и др.), наблюдался рост интереса к вопросам, связанным, в частности, с формированием и использование человеческого капитала [Поткина, 2017; Ульянова, 2018; Бессолицын, 2019], месту женщин и их семей в предпринимательской деятельности, в том числе на региональном уровне [Ульянова, 2008; Ульянова, 2016; Ульяновa, 2017; Барышников, 2018].
Столетие годовщины начала Первой мировой войны и российской революции 1917–1922 гг. актуализировало исследования, посвященные экономическому положению страны накануне и в годы этих масштабных исторических событий. П. А. Кюнг на примере российской корпорации «Сименс», приходит к выводу, что в период мировой войны частные промышленные предприятия вполне успешно могли функционировать в условиях «государственного» капитализма, используя государственные и общественные органы управления экономикой в целях получения заказов и сырья [ Кюнг , 2012, с. 112]. В другой работе, подготовленной совместно с А. П. Корелиным, П. А. Кюнг уточняет свою позицию, в соответствии с которой влияние войны на состояние и развитие промышленности оказалось «достаточно неоднозначным». Авторы полагали, что наряду с производствами, заметно прогрессировавшими в темпах и объемах выпуска продукции, к которым относились предприятия, непосредственно задействованные в работе на оборону, ряд отраслей, особенно обеспечивавших потребности частного рынка, городского и сельского населения, в годы войны стагнировали и даже деградировали [ Корелин , Кюнг , 2014, с. 286].
Заметим, что акцент на имевшиеся в России значительные промышленные мощности, потенциально обеспечивавшие успешное ведение боевых действий в годы мировой войны, стал характерен для целого ряда исследований. Б. Н. Миронов считает, что до начала 1917 г. промышленность удовлетворительно адаптировалась к условиям военного времени и обнаружила существенный рост благодаря успешному развитию империи в довоенный период. «После свержения монархии начался полномасштабный экономический кризис, который усилился после захвата власти большевиками и к 1920 г. достиг апогея» [ Миронов , 2017, с. 25]. И. В. Поткина, солидарная с позицией Б. Н. Миронова по вопросу об имевшемся в стране существенном экономическом потенциале, сочла необходимым отметить, что часть деловых кругов России предпочла уйти в политическую оппозицию правящей элите и тем самым способствовала падению царского режима [ Поткина , 2018, с. 200]. Позитивная динамика развития экономики страны в XIX – начале ХХ в. показывается Н. М. Арсентьевым [ Арсентьев , 2017, с. 39, 42].
Нельзя не согласится с мнением исследователей, которые видят в стабильном функционировании российских корпораций один из ключевых социально-экономических ресурсов для победоносного завершения войны. Несмотря на сложности, связанные с переходом экономики страны на военные рельсы, работа акционерных предприятий была в целом успешной до февраля 1917 г. включительно, причем, как считает А. А. Бессолицын, это касалось не только тех фирм, которые получали от государства военные заказы, но и тех, что работали в условиях свободного рынка. Подтверждением этому являлся рост основного и запасного капитала и выплата процентов по дивидендам, которые, начиная с 1915 г., как правило, демонстрировали устойчивую тенденцию к росту [ Бессолицын , 2018, с. 234–251]. Критикуя подход, основанный на заниженной оценке экономического потенциала дореволюционной России, Л. И. Бородкин приводит показатели «небывалого роста» металлообрабатывающей промышленности (базовой отрасли военно-промышленного комплекса) в годы мировой войны. При этом констатируется, что в сравнении с Германией положение населения России к 1917 г. было лучше при сопоставлении показателей динамики индексов цен и зарплаты, а также потребления продуктов питания [ Бородкин , 2019, с. 82–86].
Подчеркнем, что институциональная парадигма развития российского общества в довоенный период обеспечивала при всех сложностях общественно-политического положения в империи потенциальные возможности для достижения промышленниками поставленных целей. Именно частнопредпринимательская система хозяйствования являлась с 1880-х гг. движущей силой бурного индустриального развития страны [Петров, 2019]. В начале ХХ в. процесс дифференциации экономических интересов являл собой закономерный этап развития отечественного бизнеса, непосредственно проявлявшийся в совершенствовании ассоциированных форм делового взаимодействия. Развитие акционерного дела способствовало демократизации социально-экономического строя России, обеспечивая институционализацию единого пространства взаимодействия лиц различной этноконфессиональной, половозрастной, профессиональнообразовательной и иной принадлежности. Проблема заключалась в том, что данная тенденция формировалась в условиях поддерживаемого баланса хозяйственных и социокультурных предпочтений мирного времени и не предполагала рисков военной поры. С началом Первой мировой войны при достаточно успешном переходе отечественной промышленности к решению задач оборонного характера [Маркевич, Харрисон, 2013], прежде всего при активном участии корпораций, наблюдался рост негативных тенденций в политической жизни страны. Все более отчетливо проявлявшийся дисбаланс целей оппозиции (либеральной и революционной) и правительственных структур способствовал разбалансировке общественных интересов в столице, обернувшись ростом социальной напряженности и, как следствие, нарастанием кризисной ситуации и последующими революционными потрясениями в России [Шапкин, 2017, с. 263].
Подводя итог, отметим, что представленные материалы свидетельствуют о тематически более значимом содержании научных изысканий 1990–2010-х гг., чем, возможно, это ранее представлялось. Вместе с тем имеющиеся работы подтверждают, относительно поиска «новых подходов» к рассматриваемой проблематике [Debating Methodology…, 2017], особую важность сочетания макро- и микроисследований (с привлечением прежде всего архивных данных) в осмыслении прошлого отечественных компаний. В целом, в новейшей российской историографии сложился консенсус по вопросу о ведущей роли крупных и крупнейших фирм в индустриальном рывке России второй половины XIX – начала ХХ в. Однако по-прежнему ключевой выступает задача целостного изучения вопросов собственности, управления и производства в деятельности корпораций, в том числе при оценке баланса индивидуальных и ассоциированных интересов как важнейшего условия достижения успехов владельцами бизнеса [ Барышников , 2019]. Не менее серьезной проблемой остается ситуация с источниковой базой. Г. Н. Ульянова обоснованно полагает, что микроисторические исследования отдельных предприятий Российской империи «до сих пор являются большой редкостью в силу значительной сложности сбора и обработки архивного материала» [ Ульянова , 2019, с. 141]. С учетом отраслевых и региональных особенностей требуют более глубокого изучения сравнительные показатели деятельности компаний на фоне общего развития частнопредпринимательской деятельности в стране, определявшиеся гибкостью в поиске и реализации инвестиционных источников, результативностью использования технико-технологических, профессионально-образовательных и организационных новаций. Не меньшую роль играет анализ востребованности потребителями (в том числе казенными учреждениями) объемов и видов выпускаемой продукции, а также соотношения правовых и неформальных регуляторов, прежде всего в сфере взаимодействия деловых, социальных и властных институтов, способствовавших росту конкурентоспособности промышленных фирм. Подчеркнем, что акционерные компании успешно адаптировались к вызовам своего времени при условии, если имели возможность результативно использовать те или иные комбинации частных, общественных и государственных предпочтений применительно к выбранным направлениями хозяйственной деятельности. В данном смысле институциональное пространство функционирования корпораций следует рассматривать как наиболее благоприятное (в соотношении привлекаемых ресурсов – производственных, финансовых, интеллектуальных, управленческих и т.д. – и эффективности решения поставленных стратегических и оперативных задач) с точки зрения перспектив промышленного развития России в дореволюционный период.
Список литературы Промышленные корпорации дореволюционной России в новейшей отечественной историографии (1990-2010-е годы)
- Ананьич Б.В. Банкирские дома в России. 1860-1914 гг. Очерки истории частного предпринимательства. Л.: Наука, 1991. 197 с. EDN: YUSFYE
- Ананьич Б.В. Предпринимательство в России (религиозно-национальный аспект) // Экономическая история России XIX-ХХ вв.: современный взгляд. М.: РОССПЭН, 2001. С. 243-253.
- Ананьич Б.В., Дальманн Д., Петров Ю.А. Введение. Религиозно национальный фактор и специфика российского предпринимательства, XIX - начало ХХ века // Частное предпринимательство в дореволюционной России: этноконфессиональная структура и региональное развитие, XIX - начало ХХ в. М.: РОССПЭН, 2010. С. 3-13.
- Арсентьев В.М. От протоиндустрии к фабрике: модели производственно-отраслевой специализации и механизм функционирования промышленности России в первой половине XIX в. (по материалам Среднего Поволжья). Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2004. 264 с. EDN: QQIWIJ
- Арсентьев В.М. Экономическое развитие России в XIX - начале ХХ века: опыт применения модернизационной парадигмы // Экономическая история. 2010. № 2. С. 4-17. EDN: NCWUJN