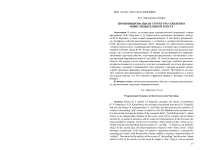Пропозициональная структура события в повествовательном тексте
Автор: Миловидов Виктор Александрович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 1 (52), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье, на основе ряда лингвистических концепций: теории предикации (Е.В. Падучева, С.Д. Кацнельсон), концепции бытийного дискурса (В.И. Карасик), а также теории макропропозиции (Т. ван Дейк), раскрывается специфика «события рассказывания» и «события, о котором рассказывается» (М.М. Бахтин) в повествовательном тексте. Показано, что пересечение границы «семантического поля» («запрещающей границы»), о которой, как о непременном атрибуте события, писал Ю.М. Лотман, может осуществляться как актантом наррации, так и актантом коммуникации. В первом случае формируется макропредикативная структура события, «о котором рассказывается», соотносимая с соответствующей макропропозицией (Т. ван Дейк - В. Кинч) в качестве эстетического объекта. Во втором случае макропредикативная структура «события рассказа», которая складывается, в частности, в логике лотмановской «эстетики противопоставления», связывает становящийся текст (рассказ) с предшествующей литературной традицией, формируя макропропозицию «отказа». Материалом для анализа события «рассказывания» и события, «о котором рассказывается», в статье послужили новелла Э.А. По «Лигейя» и фрагмент романа Г. Флобера «Госпожа Бовари».
Событие рассказывания, событие, о котором рассказывается, предикативная структура, макропропозиция
Короткий адрес: https://sciup.org/149127416
IDR: 149127416 | DOI: 10.24411/2072-9316-2020-00002
Текст научной статьи Пропозициональная структура события в повествовательном тексте
Категория события, являющаяся одной из центральных в нарратологии ([Шмид 2003, 14-19], [Тюпа 2001, 20-27], [Тамарченко 2015, 165-177]), может быть проанализирована в рамках различных научных подходов. Свое законное положение среди них должна занять и лингвистика - у этой науки, особенно в ее современном, «антропоцентрическом» наполнении, есть инструменты, которые позволили бы углубить представление о категориях нарратологии и, прежде всего, о категории события. Эти инструменты, с опорой на М.М. Бахтина и на современные подходы к анализу литературы, можно назвать «металингвистическими» [Тюпа 2013, 7-23], поскольку они позволяют структуру организации события как элемента композиции увязать с семантикой события как эстетического объекта.
Современное понимание события в литературном произведении восходит к тем определениям, которые в 1970 г. в «Структуре художественного текста» дает Ю.М. Лотман. Они впоследствии уточняются и комментируются (см., например, их детальный анализ в [Тамарченко 2015]), и одно из этих определений - уже в начале 1970-х гг. - предполагает (по крайней мере, терминологически) лингвистический подход к анализу данной категории: событие, по Ю.М. Лотману, есть «перемещение персонажа через границу семантического поля» [Лотман 1970, 282].
Впервые введенный в научный оборот еще в 20-е годы прошлого века, термин «семантическое поле» применим не только к лексико-семантическому ярусу языка, но и, как подразумевает данное Ю.М. Лотманом расширительное определение, к семантическим сущностям более высокого уровня. В повествовательном тексте таковые могут быть закреплены за фразами, абзацами и более крупными единицами формального членения [Тюпа 2001, 36-37]. Но это же допущение делает возможным отнесение понятия «семантическое поле» и к сущностям уровня более низкого: допустимо, скажем, формирование функционально-семантического поля диминутивности на морфемном уровне (аффиксальный способ формирования диминутивов), а адепты фоносемантики увидят функционально-семантическое поле в конгломерате определенных фонем (допустим, фрикативных - усмотрел же в них некую семантическую наполненность штудировавший английский язык Макар Нагульнов из «Поднятой целины» Шолохова!). Поэтому событийным потенциалом в литературно-художественном тексте обладают межкатегориальные (межполевые) переходы на всех ярусах языка - фонологическом, морфемном, лексико-семантическом, синтаксическом, стилевом, тематическом, событийном, жанровом и так далее. При этом если исходить из того, что в понятие языка, применительно к литературно-художественному тексту, входят и коды, соотносящие последний с внетекстовой реальностью, с литературным процессом, то событийностью характеризуются и эти внешние для текста отношения.
Переход персонажа (актанта) через границу семантического поля -реализация предикативной структуры, лежащей в основе любого высказывания-предложения. Теория предикации, разработанная в лингвистике, предполагает, что формирующая предложение-высказывание предикация, в свою очередь, соотнесена с некоей пропозицией, которая является ее семантическим инобытием. Так, Е.В. Падучева называет пропозицию «потенциальным концептом предложения, т.е. таким смыслом, который выражается в языке предикатной группой (предикатом, со всеми словами, служащими для заполнения его семантических валентностей)» [Падучева 1985, 36-37]. Пропозиция реализуется в тексте через предикацию, которая, в свою очередь, оформляется вербально. По мнению С.Д. Кацнельсона, переход от пропозиции к предложению происходит следующим образом: «Развертывание предложения начинается с разбиения содержания пропозиции на подлежащее и группу сказуемого. Возведение одного из членов многоместного отношения в ранг подлежащего и, соответственно, низведение всех остальных до уровня “дополнений” к сказуемому, - таково непременное условие преобразования пропозиции в предложение» [Кацнельсон 1984, 8].
Перекодируя принятые в лингвистике схемы на язык металингвистики, можно предположить, что понятия предикации и пропозиции соотносятся с бахтинской дихотомией композиции и архитектоники [Бахтин 1986, 36-43] - но с учетом идей Т. ван Дейка и В. Кинча, а также современными концепциями литературно-художественного дискурса.
Из последних продуктивной представляется концепция В.И. Карасика, который, дифференцируя институциональный и персональный виды дискурса, в последнем выделяет дискурс бытовой и дискурс бытийный. К бытийному дискурсу, как его разновидность, исследователь относит и дискурс литературно-художественный. Важнейшими характеристиками, отличающими бытийный дискурс от бытового, В.И. Карасик называет смысловой переход и смысловой прорыв: в первом случае перед нами «рассуждение, т.е. вербальное выражение мыслей и чувств, назначением которого является определение неочевидных явлений, имеющих отношение к внешнему или внутреннему миру человека», в то время как «...смысловой прорыв - это озарение, инсайт, внезапное понимание сути дела, душевного состояния, положения вещей» [Карасик, 2000, 7]. «Смысловой прорыв», как можно предположить, и позволяет, реализовав стратегию «трансцендирования» [Латышева 2012, 9], выйти с уровня организации элементарных предикаций на уровень эстетического объекта, который может быть описан как «макроструктура» литературно-художественного дискурса.
«Макроструктура», как показали Т. ван Дейк и В. Кинч, формируется на основе элементарных предикаций и связанных с ними элементарных пропозиций через реализацию определенных правил. Это правила опущения (deletion), генерализации (generalization), интеграции (integration) и построения (construction) [ван Дейк, Кинч 1989]. Исследователи так рас- крывают процесс «восхождения» от набора элементарных пропозиций к макропропозициям: «Поскольку макроструктуры (дискурса - В.М.) являются по определению семантическими единицами, они также должны состоять из пропозиций, а именно - из макропропозиций. Макропропозиция, таким образом, является пропозицией, выведенной из ряда пропозиций, выраженных предложениями дискурса» [ван Дейк, Кинч 1989, 42-43]. И ранее: «Таким образом, конкретные речевые акты могут быть или относительно “самостоятельными” единицами коммуникации (ср. приветствия), или рассматриваться как нормальные условия, компоненты или элементы последовательности, образующие глобальный речевой акт. Макроправила в терминах макроречевых актов объясняют, как именно последовательность речевых актов связана со своей глобальной репрезентацией» [ван Дейк, Кинч 1989, 36].
При этом наиболее адекватно для литературно-художественного дискурса, вероятно, правило «построения» (construction): макропропозиция (эстетический объект, характеризующийся определенной архитектоникой), реализованная в макропредикации литературно-художественного текста (в его композиции), не будет простой суммой элементарных про-позиций-предикаций - как кирпичи, из которых строится здание, не будут структурно и функционально подобны самому зданию.
Предикативно-пропозициональная структура события иерархична. Комбинация относящихся к двум элементарным высказываниям предикаций станет по отношению к ним макропредикацией, которая, в свою очередь, будет строевым материалом для макропредикаций (и макропропозиций) следующего уровня - и так далее, до уровня глобальной репрезентации, соотносимой, допустим, с целостным текстом или фрагментом дискурса.
Но событийным потенциалом, если следовать Ю.М. Лотману, наделен не каждый акт предикации, а только тот, в котором осуществляется переход «запрещающей границы» [Лотман 1970, 282]. Иными словами, событие - это переход через границу особого рода - ту, которая разделяет семантические поля, связанные особыми отношениями, а если быть более точным, предпочитающими не иметь отношений (отношения контрадикторно сти или внеположенности).
Таковы, к примеру, семантические поля с витальной и мортальной семантикой, формирующие основу события в новелле Э. По «Лигейя».
Если, учитывая иерархический характер предикативно-пропозициональной структуры события, подняться на уровень предикаций, где реализуется «запрещающий» потенциал границы между витальной и мортальной семантикой, то в новелле По можно найти четыре события, оформленных в четырех элементарных предикациях, и пятое событие, где мы выходим уже на уровень макропредикации и, соответственно, макропро-позициональной семантики.
Приведем краткий аналитический пересказ сюжета, опираясь на принципиальные событийные узлы новеллы. Нарратор (и, одновременно, актант наррации) женится на леди Лигейе, которая являет собой комбина- цию физической красоты и интеллектуальной, духовной мощи. Дав возможность нарратору насладиться общением с Лигейей, знатоком многих наук и искусств, автор заставляет его овдоветь и, через некоторое время, жениться на некоей леди Ровене, которая, в свою очередь, также умирает и всю концовку новеллы лежит на смертном одре, претерпевая некие спазматические трансформации: то смерть овладевает чертами леди Ровены (с весьма натуралистическими подробностями, на которые не скупится автор «Правды о том, что случилось с мосье Вальдемаром»), то, казалось бы, жизнь возвращается в бездыханное тело.
Событийные узлы новеллы - это точки реализации предикаций, формирующих нарратив. Первое событие - женитьба - малоинтересно. Смерть леди Лигейи - первый из по-настоящему важных узлов, содержанием которого станет переход актантом наррации границы, разделяющей семантические поля с витальной и, соответственно, мортальной семантикой: «Она умерла, и я, сокрушенный печалью во прах, уже не мог долее выносить унылого уединения моего жилища в туманном ветшающем городе на Рейне» (перевод И. Гуровой) [По 1981, 62].
Смерть леди Ровенны - третий событийный узел новеллы, формируемый очередным переходом актанта наррации через описанные границы, и вновь от витальной к мортальной семантике: «И все же я не могу скрыть от себя, что сразу же после падения рубиновых капель состояние Ровены быстро ухудшилось, так что на третью ночь руки прислужниц уже приготовили ее для погребения, а на четвертую я сидел наедине с ее укутанным в саван телом в тон же фантасмагорической комнате, куда она вступила моей молодою женой» [По 1981, 66].
И, наконец, последний переход, а также выход с уровня элементарных предикаций и пропозиций на уровень макропредикации и, соответственно, макропропозиции: «И тогда медленно раскрылись глаза стоявшей передо мной фигуры. - В этом... - пронзительно вскрикнул я, - да, в этом я не могу ошибиться! Это они - огромные, и черные, и пылающие глаза моей потерянной возлюбленной... леди... ЛЕДИ ЛИГЕЙИ!» (в оригинальном тексте: ... - these are the full, and the black, and the wild eyes - of my lost love - of the lady - of the LADY LIGEIA) [По 1981, 68].
Литературоведческая интерпретация этого эпизода известна: любовь героя к утраченной возлюбленной, а, может, и ее собственные свойства (некое подобие «Интеллектуальной красоты» Шелли) заставляют леди Лигейю победить не только собственную смерть, но и Смерть вообще. Не давая однозначного ответа на вопрос о причинах произошедшего (как и в прочих своих новеллах такого типа), По намекает на существование законов, отличных от законов обыденного мира, но этим миром управляющих. Это, собственно, и есть содержание макропропозиции (события, о котором рассказывается) реализованной в сформированной макропредикации, где актант уже не просто пересекает границу, разделяющую поля с витальной и мортальной семантикой, но переходит границы умопостигаемого (обыденного) мира, в котором эти семантические поля разделены непроходимой границей, и мира, где этой границы попросту не существует.
«Логистика» формирования данной пропозиции такова. С одной стороны, победа жизни над смертью обеспечивается инерцией многократного челночного движения актанта наррации через границы семантических полей с витальной и мортальной семантикой - это движение перфорирует, делает проницаемыми данные границы, a priori, в рамках обыденного, а не романтически ориентированного мира и сознания, непроницаемые, готовит почву для «смыслового прорыва» и, в конечном счете, дезавуирует саму дихотомию жизнь / смерть. Макропропозиция в повествовательном тексте формируется в результате осуществляемого движением актанта конфликтного со-противопоставления составляющих его микропропозиций и снятия этого конфликта. Данное снятие является одновременно и механизмом формирования макропропозиции, и ее содержанием.
При этом пауза, оформленная знаками препинания (в оригинальном тексте и в переводе их набор чуть-чуть отличается), является - через ретардацию - интенсификатором сюжетного развертывания, делает переход через границу семантических полей более эффектным и смыслосодержательным.
Но, помимо события, «... о котором рассказано в произведении», в нем реализовано и, как пишет М.М. Бахтин, и «событие самого рассказывания (в этом последнем мы и сами участвуем как слушатели-читатели) <...> при этом мы воспринимаем эту полноту в ее целостности и нераздельности, но одновременно понимаем и всю разность составляющих ее моментов» [Бахтин 1975, 403-404).
Если представить литературный процесс как взаимодействие высказываний, как дискурс, то на основе данных высказываний (литературных произведений, конгломерата литературных произведений, созданных автором или литературно эпохой) также может быть воплощена глобальная репрезентация, которая будет относиться к макрособытию рассказывания, т.е. литературному процессу.
Важно попытаться прояснить и «целостность и нераздельность», и, одновременно, «разность» составляющих событийность нарратива моментов, и, главное, логику их взаимодействия.
Первым шагом к этому объяснению может стать дифференциация двух типов актантов в повествовательном тексте - актанта наррации и актанта коммуникации (см., например, нашу работу: [Миловидов 2008, 15]). В новелле «Лигейя» нарратор совмещает в себе эти функции, а потому они почти неразличимы. Сделать этот легче там, где актант коммуникации вынесен за рамки художественного мира текста, стоит в принципиальной позиции вненаходимости - традиционная позиция, например, Г. Флобера.
Приведем известный эпизод из первой части «Госпожи Бовари», где умирает первая жена Шарля, состоятельная, но некрасивая и сухая как жердь вдова Элоиза Дюбук, которая, к моменту знакомства героя с Эммой Руо (будущей Эммой Бовари), начинает тяготить молодого героя. После ссоры с родителями Шарля Элоиза неожиданно умирает - так исчезает препятствие, стоящее на пути Шарля к сердцу и руке Эммы. И писатель, единственный раз во всем тексте, отказывается от своей принципиальной позиции вненаходимости и входит в повествование: «Но удар был нанесен. Через неделю Элоиза вышла во двор разве-сить белье, и вдруг у нее хлынула горлом кровь, а на другой день, в то время как Шарль повернулся к ней спиной, чтобы задернуть на окне занавеску, она воскликнула: «боже!» - вздохнула и лишилась чувств. Она была мертва. Как странно!» (перевод Н. Любимова; оригинальный текст: Quel etonnement!) [Флобер 1993,20].
Во фрагменте, предшествующем процитированному тексту, реализуется сюжет из стандартной типологии сюжетов. Ч. Букер все богатство нарративных вариантов, реализованных в повествовательной литературе, сводит к семи инвариантным сюжетно-композиционным схемам, семи основным сюжетам, куда относит, в частности, сюжеты «возрождения», повествующие о чудесном спасении героя или героини от власти темных сил [Booker 2005, 193-213], а также сюжет о преодолении власти чудовища [Booker 2005,21-29].
Сюжет Шарля в первой части романа - это романтический сюжет освобождения юного героя от власти старой ведьмы, чудесным образом открывающего ему путь к браку с юной красавицей. Странно то, что подобные романтически-сказочные сюжеты могут реализовываться там, где царит повседневность («Провинциальные нравы» - так звучит подзаголовок романа)! Последующий же нарратив «Госпожи Бовари» инверсирует букеровский сюжет о Золушке или Гадком Утенке. Правда, относится уже не столько к Шарлю, сколько к Эмме Бовари.
Какова же суть событийности в этом случае и как описать ее в терминах пропозициональной семантики?
Актант коммуникации выходит за границы семантического поля, сформированного стандартным сюжетом, и это событие, которое связывает стоящую за ним пропозицию с формирующейся пропозицией «отказа», как раз и есть инструмент формирования макропропозиции, лежащей в основе события рассказывания. Содержанием же этой макропропозиции становится сам факт отказа от традиционного сюжета (эстетика противопоставления), его преодоления, а формообразующим началом - поэтическая функция языка в ее направленности на сообщение, на инверсируемый стандартный сюжет и саму логику его инверсирования. При этом поэтическая функция, управляющая конфликтом между стандартным сюжетом и сюжетом формирующимся, т.е. дискурсивным развертыванием нового текста, инверсирующего стандартный сюжет, играет заодно и роль функции метаязыковой, функции «управления» дискурсом.
Уже на этом основании можно сделать вывод о том, что определяющим в двойной событийности нарратива будет событие рассказывания. У Флобера, боровшегося с поздними изводами романтизма, это было событие отказа от романтического сюжета - этот отказ, по сути, и заставил писателя убить Эмму. У По, который реализовал то, что историки романтизма называют «поэтикой» контраста, просто по определению не могло быть иной пары задействованных семантических полей, кроме как «жизнь» и «смерть», а у его героини, Лигейи - иного выбора, кроме как, преодолев смерть, восстать в теле второй жены своего первого мужа.
Н.Д. Тамарченко, говоря о специфике события рассказывания, видит в нем в качестве результата «... либо совпадение изображаемого этим рассказом “нарушения” границы персонажем с этическими нормами и ожиданиями читателя, либо отклонение от этих ожиданий и этой системы норм» [Тамарченко 2015, 175]. Мы бы уточнили - не столько этическими, сколько эстетическими: ведь нет, как говорил классик, книг нравственных и безнравственных; есть книги хорошо написанные, где писатель, преодолевая запрещающую границу литературных норм, создает новую эстетическую систему (и эти книги становятся событием литературной жизни), и написанные плохо, где автор пассивно следует уже сложившемуся эстетическому канону - таким книгам стать событием не суждено.
Список литературы Пропозициональная структура события в повествовательном тексте
- Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М., 1975.
- Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М., 1986.
- Дейк ван. Т. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.
- Карасик В.И. О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс. Волгоград, 2000. С. 5-20.
- Кацнельсон С.Д. Речемыслительные процессы // Вопросы языкознания. 1984. № 4. С. 3-12.
- Латышева Ж.В. Феномен трансцендирования (историко-философский и социальный аспекты). Владимир, 2012.
- Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970.
- Миловидов В.А. Актант // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008. С. 15.
- Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесённость с действительностью. М., 1985.
- По Э. Рассказы. М., 1981.
- Тамарченко Н.Д. Проблема события в литературном произведении: сюже-тологические и нарратологические аспекты // Нарратология и компаративистика. М., 2015. С. 165-177.
- Тюпа В.И. Нарратология как аналитика повествовательного дискурса («Архиерей» А.П. Чехова). Тверь, 2001.
- Тюпа В.И. Дискурс / Жанр. М., 2013.
- Флобер Г. Госпожа Бовари; Саламбо. М., 1993.
- Шмид В. Нарратология. М., 2003.
- Booker Ch. The Seven Basic Plots: Why We Tell Stories. London; NewYork, 2005.