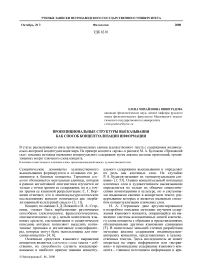Пропозициональные структуры высказывания как способ концептуализации информации
Автор: Виноградова Елена Михайловна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 3 (95), 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается связь пропозициональных единиц художественного текста с содержанием индивидуально-авторской концептуализации мира. На примере концепта «кровь» в рассказе М. А. Булгакова «Пропавший глаз» показана методика выявления концептуального содержания путем анализа системы пропозиций, организованных вокруг ключевого слова концепта.
Концепт, пропозициональный анализ, художественный текст
Короткий адрес: https://sciup.org/14749456
IDR: 14749456 | УДК: 82.01
Текст научной статьи Пропозициональные структуры высказывания как способ концептуализации информации
Семантические доминанты художественного высказывания формируются в сознании его реципиента в базовые концепты. Термином концепт обозначается ментальная единица, которая в рамках когнитивной лингвистики изучается не только с точки зрения ее содержания, но и с точки зрения ее языковой репрезентации: С. Г. Вор-качев отмечает, что в лингвокультурологических исследованиях концепт понимается как «вербализованный культурный смысл» [3; 11].
Концепт, по мнению З. Д. Поповой и И. А. Стернина, «может быть вербализован различными способами (лексическими, фразеологическими, синтаксическими и др.), целым комплексом языковых средств, систематизация и семантическое описание которых позволяют выделить когнитивные признаки и когнитивные классификаторы, которые могут быть использованы для описания концепта» [4; 8].
Основным средством языкового выражения концептов являются ключевые слова текста – собственно, их способность служить конденсированными и наиболее яркими знаками концепту ального содержания высказывания и определяет их роль как ключевых слов. Не случайно Р. А. Будагов называет их «концептуальными словами» [1; 53]. Однако концептуальный потенциал ключевых слов в художественном высказывании определяется не только их общими символическими коннотациями в культуре, но и системными языковыми связями в конкретном тексте, развертывание которых и является языковым способом концептуализации ключевых слов.
И. А. Стерниным дано аргументированное и подробное описание методики изучения содержания языкового концепта, опирающейся на выявление системы ассоциативных связей ключевого слова концепта с образами и представлениями, обозначенными другими языковыми единицами [5]. В значительно меньшей степени разработана методика анализа содержания индивидуальноавторских концептов, представленных в художественных текстах. Здесь исследователь не может опереться на опрос информантов или «встраивать» в произведение содержание языкового концепта – главным источником информации и кри- терием адекватности ее интерпретации может стать только сам художественный текст как комплексный лингвистический знак.
Под концептуализацией текстовой информации мы понимаем формирование сверхлинейных понятийно-образных комплексов, центром которых становятся ключевые слова текста. Концептуальная значимость ключевых слов обнаруживается в пропозициональных структурах текста, в составе которых ключевые слова и их дериваты в качестве элементов пропозиции вступают в семантическое взаимодействие с другими языковыми единицами, в парадигматические и синтагматические отношения, в отношения кореференции, метафорической синонимии, предикативные и обусловливающие отношения. Такое оформление логических связей между семантическими единицами, составляющими содержание концепта, мы называем пропозициона-лизацией концепта, которая осуществляется как в дискурсе, так и в пределах отдельного высказывания. Пропозициональное развертывание концептуальной информации становится способом ее языкового обнаружения: система пропозиций, структурным элементом которых (предикатом, актантом, сирконстантом) являются ключевые слова текста, есть способ языкового представления семантики соответствующего концепта. Причем по отношению к художественному высказыванию наиболее значимыми являются те пропозиции, в которых проявляется метафорическая составляющая ключевых слов, потому что именно таким образом в сознании читателя формируется метафорический подтекст - структурная основа художественной картины мира.
Однако сама система пропозиций, в которых реализуется концептуальное содержание художественного высказывания, не дана непосредственному наблюдению и является итогом логической операции, которую читатель производит непроизвольно, а филолог, занимающийся анализом художественного текста, - вполне сознательно и целенаправленно. В систему пропозиций с ключевым словом должны быть включены не только языковые единицы, прямо предназначенные для выражения пропозициональной семантики (предложения), но и языковые единицы со свернутой или скрытой пропозициональной семантикой. Пропозиция - логико-языковая структура, в которой информация принимает предикатно-аргументную форму. Развернутое высказывание (тексты на естественном языке) обычно строится не из языковых единиц с элементарным пропозициональным содержанием, а из полипропозицио-нальных (простые семантически осложненные предложения, грамматически осложненные и сложные предложения) и макропропозициональных (сложные синтаксические целые) языковых единиц, объединенных в глобальную пропозициональную структуру. Поэтому выявление системы элементарных пропозиций высказывания требует специальной аналитической процедуры - канони- зации текста. О задачах и методике пропозиционального анализа художественного текста см. в нашей работе [2].
Пропозициональный анализ текста, заключающийся в выявлении единиц с элементарной (с одним предикатом) пропозициональной семантикой и в приведении заключенной в них информации к однотипной структуре, может, по нашему мнению, служить основой для относительно полного и объективного представления концептуального содержания текста. В ходе исследования содержание составляющих текст предложений было разложено на элементарные пропозиции (выраженные не только грамматической основой, но и полупредикативными членами предложения, рядами однородных членов, предложно-падежными словоформами и атрибутивными словосочетаниями, вводно-модальными конструкциями и др.). Механизмы свертывания, наложения, установления иерархии, изменения модального статуса (переход из диктума в модус) пропозиционального содержания, которые лежат в основе формирования строя предложения как полипропозициональной единицы, были повернуты в обратном направлении - для получения списка элементарных пропозиций, в логизированной форме передающего содержание предложений текста. Полученная таким образом информация подвергалась дальнейшей обработке в разных аспектах:
-
• выделение системы пропозиций с общими сирконстантами (представляющих логическое содержание эпизодов произведения);
-
• выделение системы пропозиций с постоянным актантом, выраженным кореферентны-ми именными группами (представляющих логическое содержание образа персонажа);
-
• выделение системы пропозиций, маркирующих речевую, интеллектуальную и эмоциональную деятельность субъекта речи - повествователя и персонажей (представляющих нарративную структуру высказывания);
-
• выявление системы пропозиций, содержащих однотипные предикаты с переменными или константными актантами и сирконстантами (языковое выражение основных мотивов произведения).
В настоящей статье рассматривается выявленная в тексте рассказа М. А. Булгакова «Пропавший глаз» система пропозиций, связанных посредством ключевого слова, - на примере слова «кровь».
Ядро этой системы составляют пропозиции, в которых используется непосредственно лексема кровь и ее дериваты:
-
1) кровь заляпала травку {во время родов в кустах, которые прошли удачно}, [эта] кровь [была] яркая, руки [врачей - Юного Врача и акушерки Пелагеи Ивановны] во время принятия родов [в эпизоде неудачных родов, когда Юный Врач и Пелагея Ивановна бились над поворотом на ножку] [были] в крови , крови [было] по локоть [когда
Юный Врач и Пелагея Ивановна бились над поворотом на ножку], [солдатская] кровь [была] алая [в эпизоде неудачного удаления Юным Врачом больного зуба у солдата], [раствор марганцовокислого калия] смешался с [солдатской] кровью [во время полоскания после удаления зуба], [раствор марганцовокислого калия вместе с кровью ] вытек изо рта [солдата], кровь хлынула изо рта солдата [после полоскания], кровь хлынула изо рта солдата [сильно: так, что я замер], кровь [вряд ли текла бы] сильнее, если бы ЮВ полоснул солдата бритвой по горлу, чашка была полна [солдатской] крови , наконец кровь утихла, {Юный Врач опасался, что} у солдата будет заражение крови , пена [на губах лежащего на операционном столе человека c огнестрельной раной в упор] была розовой от крови ;
-
2) топор окровавленный {представляется Юному Врачу при рассматривании фотографий преступников}, белый предмет [= зуб солдата, удаленный вместе с куском кости] окровавленный .
Примыкающими к ядерной зоне являются пропозиции, в которых лексемы с семантикой крови восстанавливаются путем импликации на основе конверсивных отношений и отношений метафорической синонимии: кровь заляпала травку ^ {[первая, жиденькая, бледная, зеленая] травка [во время весенних родов в кустах у мостика] [стала] окровавленной }; марля мгновенно становилась алой ^ {марля [становилась] окровавленной [вследствие кровотечения из раны в солдатской челюсти]}; [комок марли с завернутым в него удаленным при помощи щипцов и с преодолением усилия зубом солдата] [был] окровавленным .
Анализ ядерной группы пропозиций показывает следующее:
-
• появление крови является знаком того, что человек находится на грани жизни и смерти (роды, опасная для жизни рана);
-
• яркий цвет крови говорит о нарушении сокровенной связи в живом организме - но такая кровь метонимически связывает сокровенными отношениями новые субстанции: так, заляпавшая во время ве сенних родов молодую травку кровь рожающей на «жирной, пропитанной влагой» земле женщины подчеркивает кровную связь между ними; хранимый в кармане, а затем в ящике письменного стола Юного Врача окровавленный комок марли с неудачно удаленным зубом солдата, как и «с ужасом» увиденная Юным Врачом полная чашка солдатской крови, устанавливают между ними отношения нерасторжимой амбивалентной связи (убийца и жертва, врач и пациент) - вплоть до двой-ничества (не случайно Юный Врач именно после неудачного удаления зуба переживает солдатскую зубную боль как собственную);
-
• сильное кровотечение и заражение крови сигнализируют о явной смертельной угрозе;
-
• кровь отмечает те предметы, которые участвуют в борьбе жизни и смерти (топор, бритва, руки врача, марля), - в этом смысле заслуга помощи родам в соответствующем эпизоде принадлежит не только Юному Врачу и акушерке, но и земле-матери (тогда как в другом эпизоде с родами, в отсутствие помощи со стороны зимней вьюжной природы, несмотря на руки по локоть в крови, врачам не удается спасти младенца); плод этой борьбы (окровавленный зуб, завернутый в комок марли);
-
• кровь постоянно сопровождает деятельность Юного Врача, но в тексте данного рассказа маркированной является сема таинственности, новизны события, сопровождаемого кровью, участником которого становится Юный Врач; в этом смысле в содержание концепта крови входит со-кровенный характер деятельности врача.
Таким образом, в семантической структуре концепта выделяются семантика сокровенной связи субстанций мира, носителя жизненно важной информации.
Следующий круг представлен пропозициями, являющимися синтаксическими дериватами ядерных пропозиций и организованными с помощью предикатов, которые актуализируются в синтаксических дериватах. Эта группа выражена полипропозициональными синтаксиче ски-ми единицами, в составе которых семантика пропозиций первой группы включена в качестве одного из актантов (вмещающие отношения) или в качестве обусловливающей пропозиции.
Яркая кровь заляпала травку , которая была первой, жиденькой, бледной, зеленой, - противопоставление по семе интенсивности и неявные каузирующие отношения: «оживление» молодой травки кровью - параллель с рождением младенца в этом эпизоде.
Кровь хлынула изо рта солдата вследствие того, что Юный Врач, удаляя больной зуб, вырвал кусок челюстной кости (белый предмет, зажатый в щипцах, был удален после некоторого сопротивления) - в этом случае сам Юный Врач становится виновником кровопролития, поэтому не случайно возникает условное сравнение с убийцей («если бы я полоснул его ножом по горлу»), дающее основание ставить знак гипотетического равенства между Юным Врачом и преступниками, хотя сама мысль о таком отождествлении вызывала у него ужас. Выстраивается синонимический ряд, на одном конце которого - орудия убийства, на другом - медицинские инструменты: окровавленный топор -бритва, полоснувшая по горлу, - щипцы, удалившие солдатский зуб («Ах, черт возьми! Зачем я сунулся к нему со щипцами?»). В другом эпизоде неправильное наложение ложки акушерских щипцов приводит к гематоме: Юный Врач
«младенца... получил странного: половина его головы была раздувшаяся, сине-багровая, безглазая» (этот «кровавый» знак дублируется в портрете Юного Врача: в зеркале он видит «перекошенную физиономию явно дегенеративного типа с подбитым как бы правым глазом»).
Кровь хлынула изо рта солдата после того, как Юный Врач, будто стараясь замаскировать свою ошибку, бессмысленно заставил солдата полоскать рот раствором марганцовки.
Розовая пена на губах лежащего на операционном столе человека с «раной в упор» косвенно сигнализировала о внутреннем кровотечении, борьба с которым требовала от Юного Врача профессиональной решимости и мастерства, которые он и проявил («Разве я тогда потерялся?»), хотя за ответ о ранах в упор на экзамене по судебной медицине получил тройку.
Окровавленный топор , окровавленный комок марли с солдатским зубом связаны с насильственными действиями, которые даны в контексте оценочных предикатов «преступник», «преступление».
Окровавленный комок марли с солдатским зубом Юный Врач «воровским движением» пять раз вынимал из ящика письменного стола и опять прятал - метафора невозможности «похоронить» «кровавое преступление», избавить от него свою память и совесть. Обратим внимание также, что все «кровавые» эпизоды даны в нарративном контексте воспоминаний Юного Врача, подчиняются эксплицированным и имплицитным предикатам ментальной рефлектирующей деятельности. «Кровавый след», таким образом, соединяет прошлое и настоящее.
Сопоставление указанных полипропозицио-нальных информационных единиц показывает противопоставление в индивидуально-авторском концепте «кровь» жизнетворного и смертельного, естественного и насильственного кровопролития. Подчеркивает особый онтологический статус врача, который выступает и как виновник кровопролития, и как борец с ним.
Приезжая в Мурьево, Юный Врач привозит с собой бритву и бритвенные принадлежности. В этом рассказе подчеркнуты хирургические аспекты врачебной профессии, поэтому не случайна бритва как атрибут Юного Врача - знак не только его связи с цивилизацией, но и близости к кровопролитию. Однако первое же значительное «кровавое» событие заставляет забыть о бритве и бритье, и в дальнейшем, по мере углубления героя во врачебную деятельность, «Жиллет» делается для него все менее нужным, превращаясь в «блестящую игрушку».
Особого внимания заслуживает подсистема пропозиций с предикатами цвета. О крови говорится, что она яркая, алая. Но такой является лишь свежая и явно обнаруживаемая кровь. Об окровавленном же комке марли с солдатским зубом говорится, что он «ржавел и высыхал в письменном столе». Этот предикат указывает на изменение цвета крови по мере ее старения, об утрате яркости, о появлении оттенков рыжего и желтого цветов. В данную парадигму могут быть включены пропозиции, где аналогичные предикаты приписаны другим именным группам, благодаря чему между кровью и другими субстанциями устанавливаются отношения глубинного родства. Предикат «ржавый» («ржавень-кий») в художественном мире рассказа приписан прежде всего металлическим предметам. «Ржа-венькая полосочка» осталась на лезвии бритвы «Жиллет», долго пролежавшей в мыльной пене, потому что Юному Врачу необходимость выполнять профессиональные обязанности помешала добриться; и эта «ржавенькая полосочка» навечно осталась на лезвии «как память о весенних родах». Таким образом, мотив «ржавения» обретает устойчивую связь с мотивом памяти. Благодаря фигуре сравнения концепт «окровавленный зуб» вступает в отношения метафорической синонимии с концептом «ржавые гвозди»: «на свете^ существует фельдшер Демьян Лукич, который рвет зубы так же ловко, как плотник - ржавые гвозди из старых шалевок». Ржавчина служит образным субститутом старой, запекшейся крови. Вполне логичным становится развитие этого мотива применительно к другим субстанциям художественного мира: рыжий или желтый оттенок, проявляющиеся в «поржавевшей» крови, связываются с представлением о взрослении и возрастающей мудрости (у возмужавшего Юного Врача «рыжеватая поросль» на щеках и полоска над верхней губой, напоминающая «пожелтевшую зубную щеточку»; в момент воспоминания о прошедшем годе и подведения итогов Юный Врач видит «желтые последние листья на березах»; «прокуренная», следовательно, пожелтевшая или порыжевшая, «бороденка» у опытного уездного врача). Но желтый цвет связан и с концептом смерти («желтое тельце» мертвого ребенка, «восковой» цвет едва не умершей родильницы).
На связь рыжего, ржавого цвета с темой вины и мотивом «несмываемой крови» обращает внимание Е. А. Яблоков [7; 91], отмечая, что не случайно даже стоматологический эпизод строится на сравнении зубов с «ржавыми» гвоздями: добавим, что завернутый в окровавленную марлю зуб «ржавел», но, несмотря на желание Юного Врача изгнать событие из памяти, это ему не удавалось. Подобно тому как неизвестно зачем хранится «поржавевший» комок марли, сохраняется ставшее бесполезным, но напоминающее об успехе врачебной практики поржавевшее лезвие бритвы.
Таким образом, алый, яркий цвет свежей крови вступает в оппозицию с цветом ржавчины и желтизны, но усиливает входящую в концепт крови семантику накопления опыта и памяти. Стареющие и инициирующие воспоминания предметы в разной степени отмечены знаком запекшейся крови. Заметим, что деятельность
Юного Врача начинается «в тридцати верстах от железного пути», то есть не содержит изначально источников «ржавчины».
В связи с этим примечательны два эпизода: «разбавление» крови за счет смешивания с марганцовкой (Юный Врач велит солдату полоскать рот после удаления зуба) и «маскировка» кровавой раны (Юный Врач вымазал лунку во рту солдата йодом). Кстати, на первые роды Юный Врач мчится с банкой йода, которая ему не понадобилась.
Выделенные в тексте рассказа «Пропавший глаз» пропозициональные структуры, имеющие отношение к концепту «кровь», дают основание говорить о языческом и христианском мифопоэтическом подтексте произведения. Подчеркнем прежде всего художественную значимость того, что первый из описанных в рассказе врачебных эпизодов (весенние роды) протекает на фоне готовой к новому рождению природы, признаками которой в рассказе являются половодье («речка, мутная и вздувшаяся среди оголенных куп лозняка»), «жирная, пропитанная водой земля» с проступившей на ней молодой травкой, «заляпанной» кровью рожающей женщины. Синонимичными этому описанию становятся образы потока крови, смешанного с водой для полоскания, вырывающегося изо рта солдата после удаления зуба (завернутого, подобно младенцу, в марлю), и образ «пузыристой пены, розовой от крови», которая «вскакивала… на губах» человека с раной в упор.
Апокалиптические ассоциации вызывает постоянное повторение мотива кровопролития – тем более в контексте образа чашки, полной крови. Противоречивые евангельские реминисценции (молитва в Гефсиманском саду, наполненный кровью Христа священный Грааль, «умывание рук» Пилатом, на котором лежит ответственность за казнь невинного) обнаруживаются в структуре образа Юного Врача.
Выявление семантического объема концепта в художественном произведении на основе анализа пропозициональных единиц, организованных ключевым словом концепта, включает, таким образом, следующие этапы: 1) анализ предикатов, приписанных ключевому слову в элементарных пропозициях; 2) анализ подсистемы пропозиций с кореферентными и однотипными актантами в функции субъектов, по отношению к которым кровь является предикатом (субъект обладания); 3) анализ подсистемы пропозиций с одинаковыми и однотипными (синонимичными) предикатами (выявление метафорических соответствий атрибутов крови и связанных с нею событий другим явлениям мира); 4) анализ закономерностей включения элементарных пропозиций с ключевым словом в полипропози- циональные структуры (выявление концептуального и мотивного взаимодействия).
Е. А. Яблоков отмечает значимость мотива крови в художественном мире М. А. Булгакова [7; 308–311]. Но если в других произведениях писателя на первый план выходят такие составляющие семантики данного мотива, как связь с течением исторического времени и происхождением персонажа, то в цикле «Записки юного врача» в целом и в рассказе «Пропавший глаз» в частности в концепте крови актуализированы в пропозициональных единицах следующие семантические компоненты:
-
• кровь является атрибутом живого человеческого организма, в котором жизнь борется со смертью;
-
• кровь является средством связи с жизнью как формой бытия Универсума (с природным началом вообще);
-
• кровь – сокровенная субстанция, а ее явление (кровопролитие) есть жизненная катастрофа;
-
• кровопролитие совершается под влиянием естественных сил, случайного стечения обстоятельств либо по вине человека; целенаправленное или непреднамеренное кровопролитие оценивается как преступление;
-
• яркая, алая кровь говорит о кульминационном моменте этой борьбы и свидетельствует о жизненной силе;
-
• кровью отмечены предметы, которые являются участниками и свидетелями борьбы; данные предметы метонимически перенимают свойства того организма, чья кровь пролита, или того лица, которое стало виновником кровопролития;
-
• засохшая и потускневшая («заржавевшая») кровь является хранителем памяти о событии кровопролития;
-
• кровеподобными в качестве хранителей памяти и опыта являются другие предметы, в той или иной степени отмеченные цветом ржавеющей крови;
-
• в тройственной онтологической оппозиции «губитель / жертва / спаситель» (тот, кто проливает кровь / тот, чья кровь проливается / врач, останавливающий кровотечение) врач занимает особое место: неосторожное, чересчур самонадеянное, непрофессиональное поведение может превратить его из того, кто спасает пациента, в убийцу (поэтому среди атрибутов Юного Врача бритва – предмет, способный привести к кровопролитию, а также марля и банка с йодом – предметы, помогающие в борьбе с кровотечением и заражением крови).
В целом в художественном мире рассказа кровь предстает как универсальный носитель жизни и информации.
Список литературы Пропозициональные структуры высказывания как способ концептуализации информации
- Будагов Р. А.Язык -реальность -язык. М.: Наука, 1983. 262 с.
- Виноградова Е. М. Пропозициональный анализ художественного текста как основа его интерпретации//Известия Уральского государственного университета. Сер. «Гуманитарные науки». Т. 41. Вып. 11. Екатеринбург: Изд-во ЕГУ, 2006. С. 145-152.
- Воркачев С. Г. Постулаты лингвоконцептологии//Антология концептов/Под ред. В. И. Карасика, И. А. Стер-нина. Т. 1. Волгоград: Парадигма, 2005. С. 10-13.
- Попова З. Д., Стернин И. А. Основные черты семантико-когнитивного подхода к языку//Антология концептов/Под ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина. Т. 1. Волгоград: Парадигма, 2005. С. 7-10.
- Стернин И. А. Описание концепта в лингвоконцептологии//Лингвоконцептология. Вып. 1. Воронеж: Истоки, 2008. С. 8-25.
- Яблоков Е. А. Художественный мир Михаила Булгакова. М.: Языки славянской культуры, 2001. 424 с.
- Яблоков Е. А. Текст и подтекст в рассказах М. Булгакова («Записки юного врача»). Тверь: Твер. гос. ун-т, 2002. 103 с.