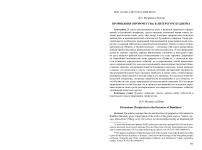Прорицания (пророчества) в литературе буддизма
Автор: Музраева Деляш Николаевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 4 (55), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается роль и функции пророчеств (прорицаний) в буддийской литературе, дается описание сочинений жанра «наказ; речения, наставление» (монг. jarliy, ойр. jarliq), в которых пророчествам отводится важная роль в проповеднической деятельности буддийских иерархов. Также рассматривается особая роль прорицаний (предсказаний) в повествовательной литературе, созданной тибетскими и монгольскими авторами. Одним из таких сочинений является «Повесть о Лунной кукушке» - сочинение тибетского автора Дагпу Лобсан-Данби-Джалцана, переведенное на монгольский язык. В нем прорицание одной из главных героинь, царицы Матимахани, сделанное в начальной главе, по сути, является фабулой всего повествования о ее сыне царевиче Дхармананде. Важнейшей особенностью таких пророчеств в «Повести.» является не простое изложение определенных событий, но и перечисление линий преемственности (перерождений) тех или иных персонажей, среди которых предстают божественные персоны, воплощения божеств буддийского пантеона. Автор приходит к выводу, что включение в тексты «наказов, речений, наставлений» пророчеств, предсказаний будущего было призвано пробудить в людях страх и благоговение, расширяло представления о составе мира и его динамике. Что касается повествовательной литературы, поскольку пророчества вкладывались в уста божеств, то это обстоятельство делает прорицания не подлежащими сомнению. В то же время прорицание не только будущих, но и прошлых воплощений того или иного персонажа является своего рода подтверждением достоверности излагаемых событий, упоминаний известных персон.
Буддизм, переводы, тексты, наказы, тибетский и монгольские языки, прорицания, пророчества
Короткий адрес: https://sciup.org/149127277
IDR: 149127277 | DOI: 10.24411/2072-9316-2020-00116
Текст научной статьи Прорицания (пророчества) в литературе буддизма
Во все времена люди стремились узнать свое будущее, свое предначертание, исход задуманных дел независимо от того, к какому сословию они ни принадлежали. Эти тайны им открывали божественные персоны, которые и предопределяли, предсказывали людям будущее. Прорицателями могли выступать предсказатели, ясновидящие, обладавшие сверхъестественными способностями. Как правило, они являлись неординарными личностями, и по этой причине рассматривались воплощениями божеств.
Согласно учению буддистов, жизнь представляет собой «<...> не настоящее только существование, а длинный ряд предшествующих и последующих существований, которым не видно начала и которые при желании жить могут продолжаться без конца. Рождение не есть начало бытия, так точно и смерть не есть ему конец...» [Подгорбунский 1901, 10].
О роли пророчеств (прорицаний) в сочинениях жанра Jarliq («наказы», «слова», «завещания»)
Большую популярность и широкое распространение среди монгольских народов в конце XIX - начале XX в. имели сочинения, именуемые «наказами», «словами», «наставлениями» (монг. jarliy, ойр. jarliq), авторами которых выступали буддийские иерархи Тибета и Монголии [Сазыкин 1988, 454]. То, что сочинения подобного жанра, именуемые «Предсказание будущего» (тиб. Ma- ’ongs lung-bstan, калм. Ээлдхлин зэрлг, где ээлдхл ‘наказ; пророчество’), пользовались популярностью у калмыков, сохранились до начала XXI в. в частных коллекциях Калмыкии, отмечают источ-никоведы [Гедеева 2011, 63-64; Музраева 2012, 42-43; Буддийские наказы 2016]. Авторами этих сочинений («наказов», «изречений», «наставлений»)
выступают Будда Шакьямуни, другие божества буддийского пантеона (Будда Мила, десять Будд, тысяча Будд хорошей (благоприятной) калпы), их земные воплощения - религиозные иерархи (Далай-лама, V Джебцзун Дамба-хутухта) и др. Наиболее многочисленными были рукописные послания глав буддистов Монголии или ургинских хутухт (от монг. qutuytu ‘возвышенный; достопочтенный; титул высших духовных лиц’), чьи резиденции находились в тогдашней столице Монголии Урге.
Относительно структуры и содержания подобных сочинений можно отметить, что они содержат адресованные верующим наставления о том, что следует вести праведный образ жизни, следовать религиозным заповедям, неисполнение которых может привести к многочисленным бедствиям, наказанию, несчастьям и т.д. Грядущие беды в них описывались довольно подробно и убедительно, что не вызывало у читателей и слушающих сомнений в их неминуемом наступлении. Прорицания о будущем никого не могли оставить равнодушными. Возможно, это была одна из причин такой популярности подобных сочинений у монгольских народов (калмыков, бурят, монголов). Содержательная многоплановость сочинений такого рода, возможно, является причиной того, что этот жанр переводится по-разному разными исследователями: кто-то видит в них прежде всего религиозные наставления, руководство о том, как не совершать неблаговидные поступки, как не впасть в религиозный грех, а для кого-то важнее прорицания о грядущем. В целом эти сочинения можно охарактеризовать как «изречения с элементами пророчеств» [Музраева 2009].
Сказанное выше можно проиллюстрировать на примерах из текстов. Вот как представлены наставления о праведной жизни и праведном учении, которому необходимо следовать, произнесенные Буддой в сочинении «Предсказание будущего» (ниже мы приводим фрагмент текста в транслитерации на тибетском и ойратском языках, а также в русском переводе):
Тиб.
-
(1) sdug-bsngal-kyi rgya-mtsho-las sgrol // sdig-pa thams-cad spong-payin // dmy-al-bar Itung-ba’i sems-can-la yang (2) ngas ‘dren-pa yin //de4 dusu [^dus-su] chos-kyi yi-ge ‘di dar-ba yin-no // ‘di ‘bri ‘don byas-na nad thams-chad // (3) mi gcig-gis bris-nas grong-khyer gcig-la phan // grong-khyer gcig-gis bris-na rgyal khams kun-la phan // mi rnams-kyi (4) bsod nams ‘phel-pa dang // kyen [=rkyen] ngan bar-chad bzlog-pa dang // dmyal-pa 4 sdug-bsngal thams-cad-las thar-par ‘gyuro /
Ойр.
(la) zovolanggin dalai-ece getilliln kilinci xamilq tebckdil miln[:] tamdil unuqsan amitandil co (2a) bi bir tatan udurdxi mon[:] tililni caqtil nomin zarliq ene ilrugejilekilu mon bo[:] titini bicin iimsun ulidkille obucin xamilq tasarxi[:] (3a) negi [^nigen] кй-тйп-уег bicikille abxq baly[a]d negen-dil tusulxi abaxi balyad negen-yer bicikele oron nutuq biigiiiidr tusulxq[:] кйтйп-nuyudin (4a) bttyun orgiyiki kiged mini siltani zedeker urbuxi kiged tamain zobolong xamilq-ece tonilxi-dil boloxoi
Pye.
(la) ‘Освободившись из океана страданий сансары, воистину станете воздер- живаться от всех прегрешений, даже низвергнувшихся в ад живых существ (2а) я воистину спасу и поведу их за собой. В то время слова этого Учения воистину распространятся. Если их переписывать и читать, то все болезни прекратятся (букв, прервутся). (За) Если перепишет один человек, то поможет целому городу, если перепишет весь город разом, то поможет всей стране, (4а) добродетель людей приумножится (букв, вырастет в вышину), а также прервутся препятствия от плохих причин, и [они] избавятся от всех страданий ада’ [ЕВ, л. 4а].
Тиб.
-
(1) tshe ‘di dang phyi-ma gnyis ka la phan // ‘gro-ba rigs drug-gi sems-can thams-cad thar-pa 4 lam yin // dper-na mtsho dang chu-la gru dang gzings (2) Ita-bu yin // yi-ge ‘di-la dad-pa dang mos-gus rnam-par dag-pa byed-pa gal che ’o // byams-pa mi 4 yul-du ma byon-kyi bar-du phan-pa 4 (3) yi-ge rgya-cher ‘di yin-no //
Ойр.
(la) ene nasan kigedxoitu xoyuladil tusulxi[:]yabuqci zuryan zuil-iln xamuq ami-tan tonilxq muur mon[:] illgilrlekile dalai kiged usun-dii ongyaci kiged sal metil mon[:] zaraliq tiun-du suziiq kiged bisurim suziigulukuu masi airilni ulildkil yeku kereqte bo[:] Maid[a]rin gegen kilmilni oron-dil oodii boloxi kilreteli tusalxi (3a) zaralaq ayu yeke ene тип bo[:]
Pye.
-
(1) В этой и последующей жизни окажут помощь. [Для] всех живых существ шести видов это воистину есть путь избавления (спасения). Если привести пример, то [они] подобны лодке и плоту в океане или на воде. (2) К этим словам следует пробудить веру и почтение, в высшей [степени] необходимо соблюдать высшую святость. До тех пор, пока [Будда] Майтрейя не явится в мир людей, будут оказывать помощь, (3) [эти] слова неимоверно значимы’ [ЕВ, л. 4Ь].
Одной из характерных особенностей данного сочинения являются слова назидания в отношении тех, кто утратит веру в учение. Они перемежаются, плавно переходя в слова предсказаний о событиях, которые произойдут в будущем:
Тиб.
-
(1) de’i rgyab-tu gnyis-pa mi’i yul-du khrag-gis lung-ba ‘gengs // gnyis-pa (2) gsum-pa lo-tog so-пат byas-pa rang-gi rjes-su blang dbang med // bzhi-pa mi rnams-kyis sdug-bsngal shin-tu myong // Inga-ba lam-la (3) ‘gro-ba 4 mi mthong // drug-pa gcan-gzan sna-tshogs rnams-kyis grong-khyer gang-bar ‘gyur // bdun-pa rgyal-khams-kyi khang-ba-rnams stong-par ‘gyur / (4) brgyad-pa gcan-gzan ro gzan gang yang chags med-du ‘gro-ba thong // dgu-pa mi re-re tsam yod kyang // ‘dug mi phong / bcu-pa yi-dvags-kyi / gdon-gyis grong-khyer nyul-bar snang;
Ойр.
(la) tilimi xqinu-dtl xoyor-duyar dayacni kumuni oroon-dtl cusuun-ver yol durkti (2a) yutayar temseni aixtl illdeqseni ebilryiln abxq erke iigei[:] diltger кйтйп-nuyudar zobolong masi edelekil[:] tabudqyar zam-dtl (3a) yoboqsan ulti ilzilqdku[:] zuryadyyar arati eldeb-nuyudar abxq baly[a]d durukilu-dil bolqxi[:] doladuyr orqn nutugin bising- niiyiid xosorxi-dti boloxi (4a) naimadtiyar aratai uktldul ideqci alin co turaxai [=du-ralxu] ugi-dil yoboqsan iizqdku[:] yesildilger ktimin nejedin tiidubii bolbocu suuji tilti cidaxi[:] arbadiiyar biridin / ada-ber abuxi balyad tursiqsn-du ilzilqdekil
Pye.
(la) ‘Второе, что последует вслед за этим, в стране людей реки переполнятся кровью; (2а) в-третьих, то, что посадили, не будет права обрести самим; в-четвертых, люди в значительной [степени] испытают страдания; в-пятых, не будет видно [чтобы кто-то] шел по дороге; (За) в-шестых, звери переполнят города; в-седьмых, дома в [этой] стране опустеют; (4а) в-восьмых, будет видно, как звери, питающиеся трупами, будут бегать взад и вперед, не желая никаких из них; в-девятых, люди, хотя и будут бедствовать каждый по-отдельности, [вместе] жить не смогут; в-десятых, / города подвергнутся испытанию злыми духами’ [LB, л. 5а]
Как видно из сказанного, от верующих ожидается, что они станут эти наставления передавать другим в устной и письменной форме.
В другом сочинении, «Изречения Будды Милы» (ойр. Mila burxani zarliq), дается характеристика неблагоприятных времен, когда от населения земли останется лишь десятая часть: «Наступают скверные времена, когда перестанут заботиться о родителях, не будут уважать старших, не станут почитать гениев-хранителей родителей, станут произносить резкие, скверные слова; пристрастятся к проклятиям и клятвенным заверениям; будут просыпать, смешивая с грязью, богатый урожай, на добро, сделанное людьми, отвечать злом; забудут об оказанной пользе, будут разрушать, сея раздор, разными способами обманывать людей; насмешкой станут унижать жен и дочерей, заставят страдать, испытывать стыд; младшие перестанут слушать поучения старших; станут оценивающе судить о людях; давая что-нибудь в малом объеме, возвращать в большем; князья и сановники, оставив нужных людей, поведут [за собой] глупцов; будут убивать коров, собак; творить разные грехи» [MBZ, л. 2Ь:9-За:9].
Как отмечалось выше, при описании сочинений из разряда «наказов» («наставлений») прорицателями могли выступать исторические персоны, высшие иерархи. Изложение прорицаний в яркой, незабываемой форме преследовало цель, с одной стороны, воздействовать на верующих так, чтобы у них не возникало желания совершать неблаговидные поступки. С другой стороны, это свидетельствовало об их достоверности, поскольку основывались эти прорицания на особом, сверхъестественном знании учителей высокого ранга, что усиливало эффект воздействия на слушателей.
О пророчествах в повествовательной буддийской литературе
Пророчества (прорицания) являются одной из характерных особенностей повествовательной литературы с буддийской тематикой. Ярким свидетельством этого может послужить «Повесть о Лунной кукушке» (1737 г), в которой пророчества вплетаются в канву повествования, являются важной составной его частью, служат своеобразным эталоном, точкой подтверждения явлений, событий, характеристики действующих персонажей. «Повесть о Лунной кукушке» - сочинение тибетского автора Дагпу Лобсан-Данби-Джалцана (1714-1762), переведенное на монгольский язык литератором Дай туши Агвандампилом (1700-1780) в 1770 г. В нем повествуется о царевиче, у которого был приближенный сановник. Последний вместе с одной из его жен сумел подстроить все так, что сам воссел на царский трон. При этом сам царевич, который обучился практике переноса сознания, превратился в птицу, но в силу козней сановника, не имея возможности вновь обернуться царевичем, был вынужден покинуть дворец и жить в лесу среди зверей и птиц. Жанровая принадлежность данного сочинения определяется как авадана («повесть о благочестивых или греховных деяниях и их отражении на последующих воплощениях»), «тайная биография» тибетского религиозного деятеля Дагпу, которая «открылась» ему в снах и видениях, история.
Кто является прорицателем? Чьими устами произносятся важнейшие предсказания? Прорицания, которые произносят персонажи «Повести...», могут быть пространны, развернуты и содержать не только предсказания о будущих событиях, но и упоминания о прошлых жизнях, воплощениях персонажей. Прорицателями, как правило, выступают божества пантеона: женское божество Арья Тара (монг. Дара Эхэ\ воплощением которой является мать царевича, царица Матимахани; Будда Амитабха, чьим перерождением является учитель-наставник лама Хир Угэй Цопу (санскр. Вимала, тиб. Дримедпал ‘непорочный, сиятельный’); бодхисаттва Авалокитешвара, который принимает разные образы и сам является царевичу-кукушке. Эти три божества буддийского пантеона (Амитабха, Арья Тара, Авалокитешвара) особо почитаемы в Тибете.
Изначально устами богини Арья Тары (Спасительницы Дара ЭхД обрисовывается вся история жизни главного героя - царевича Дхармананды (монг. Nom-un bayasqulang ‘радость учения’). Некоторые моменты даже для прорицателя представляются малопонятными, поскольку существует закон кармы: у каждого действия есть следствие. (Примеры, приводимые далее, взяты из ксилографа на монгольском языке, хранящегося в Научном архиве КалмНЦ РАН [SKT]).
Богиня Тара обращается к царю Южной страны с такими словами: «В соответствии со сказанным Хоншим Бодисатвой (те. Бодхисаттвой Авалокитешварой) ты отправляйся [в Варанаси]. Я же прибуду в облике царицы того царя, меня будут звать Матимахани. Проникни в ее лоно. Пока я буду пребывать в той стране, не случится такой беды, чтобы ты был обманут шинмусом (те. злым духом). Вслед за этим северный царь по имени Рива-ди Одона Торогсэн («Рожденный на Звезде Ривати») станет твоим сановником. Вновь та, чье имя Эрихэ Тэнгри («Небесные Четки»), станет твоей царицей. Эти двое станут чинить тебе препятствия» [SKT, л. 5а-5б]. Это, с одной стороны, наказ богини царю Южной страны, который последовал ему неукоснительно, и в то же время это предсказание о цепи событий, которые произойдут в последующем в жизни этого царя, они, по сути, и составляют сюжет «Повести о Лунной кукушке».
Из прорицаний, которыми изобилует текст «Повести...», становится ясно, что судьбы тех персонажей, которые получают рождение в облике божеств, неминуемо тесно переплетаются. Приведем фрагмент из наставления ламы Хир Угэй Цогту (Дримедпала), адресованного царевичу, где разъясняется роль Авалокитешвары: «При нашем всеобщем учителе [Будде] Шакьямуни он, получив рождение [в облике] Сиятельного сына, составил установление [для] бодхисаттв и проповедовал [учение о] плоде деяний. Он был твоим ламой-наставником в добродетели. С этой поры, пока не достигнешь сущности просветления, [он] будет покровительствовать тебе. Отсюда [он] незамедлительно отправится в [райскую] страну Сукхавати, получит рождение царем высшего учения по имени Эрдэни Харлиг («Драгоценный Раб») и будет проповедовать о последствиях белых и черных деяний множеству существ. Внезапно [он] явится ко мне в эту страну, пригласит на восток спасительницу Дара Эхэ (те. богиню Арья Тару), сиянием дарует живым существам спокойствие и счастье. Со [всей] своей решимостью вкусит тайные наставления. К тому же ты переродишься в этой Западной стране, повстречаешься с сиянием наивысшего царя-хубилгана. Он, будучи прибежищем, [минуя] другие промежуточные рождения, получит рождение великим царем Сронцзангампо (тиб. srong-btsan-sgam-po), покровительствующим Тангутской стране, окруженной снежными горами (те. Тибету). [Он] наставит Тангутское государство на путь [постижения] причины и следствия [совершенных деяний]. Над страной темного континента взойдет солнце высшего учения. Ты также родишься другом того царя, наимудрейшим сановником по имени Сронц-зан. Когда [царь] пригласит с востока деву-хубилгана (те. воплощение) высшей Дара Эхэ, то в Тибет прибудут две ее сиятельные эманации (т. е. китайская и непальская принцессы, жены царя Сронцзангампо, объявленные воплощениями Зеленой и Белой Тары). К тому же в Тангутской стране после того, как минует время правления пяти поколений царей, для того чтобы распространить знаменательное учение, [он] получит рождение великим царем по имени Тисрондэцэн (тиб. khri-srong-lde-btsan). Он привнесет возвышенное учение из Индии в Тибет и пригласит также многих индийских пандит (мудрецов). Я (т. е. лама Хир Угэй Цогту - воплощение Будды Амитабхи) в это время наверняка отправлюсь в Тибет. Сиятельное учение с еще большей силой по сравнению с Индией расцветет в Тибете. К тому же будет много других, обладающих высоким рождением хубилга-нов-лоцзав (т. е. переводчиков буддийских текстов). Ты, [царевич] Баясху-лан, получишь рождение сыном царя Илагугсан Далая («Победоносного Океана»), <...> Когда наступит смутное время, [он] переродится в Тибете учителем по имени Убаши, обладающим кротким нравом, усердствующим в теории познания, незамедлительно оказывающим милость. Вновь я, сын царя Буяну Цогту («[Обладающего] Блеском Добродетели») индийской страны Захор (Джахор), стану странствующим монахом по имени Атиша, составителем «Пламенной лампады» (или «Светильника на Пути к Про- буждению» - основополагающего сочинения, раскрывающего содержание важнейшего буддийского понятия «путь»), явлюсь в той благословенной стране в явном телесном [воплощении]. Искоренив неправедные [учения], создам непорочную веру» [SKT, л. 94а-94б].
В представленном прорицании упоминаются имена исторических лиц: тибетских царей Сронцзангампо (VII в.) и Тисрондэцэна (VIII в.), сыгравших важную роль в привнесении, установлении и развитии буддизма в Тибете, индийского проповедника Атиши (Дипанкара Шриджняны) (XI в.), который был приглашен в Тибет, где способствовал восстановлению буддийского учения после гонений царя Лангдармы, создал школу тибетского буддизма кадампа.
В этих пророчествах не просто перечисляются события, но в них, по сути, разъясняется вся цепь событий, которые некогда произошли с персонажами и которые еще только произойдут в обозримой и далекой перспективе. При этом иногда прорицатель дает перечень всех персон, которые имеют отношение к линии перевоплощений главного героя и других персонажей. И в этом проявляются особые качества и неординарные способности некоторых высших духовных учителей, способных припомнить и перечислить все свои предыдущие и предстоящие воплощения. Примечательно, что некоторые линии преемственности исторических персон достаточно узнаваемы: когда речь идет о самом Будде, его ближайшем окружении или упоминаются тибетские цари и известные буддийские проповедники.
Выводы
В заключение можно отметить, что прорицания (пророчества) имели важное значение для проповедников, адептов, которые включали их в свои сочинения. Включение пророчеств, предсказаний будущего в тексты «наказов, речений, наставлений» было призвано пробудить в людях страх и благоговение, расширить представления о составе мира и его динамике. Что касается повествовательной литературы, пророчества вкладывались в уста божеств, и это обстоятельство делает прорицания не подвергающимися сомнению.
Список литературы Прорицания (пророчества) в литературе буддизма
- SKT - Bodi sedkil tegüsügsen köke qoyolai-tu Saran kökege neretü sibayun-u tuyuji orcilang-un bükün-i jirüken ügei kemen medegcid-ün cikin-ü cimeg ‘Повесть о Лунной кукушке'). Ксилограф на монгольском языке. Научный архив КалмНЦ РАН. Шифр ФД-8. Оп. I. Ед. хр. 194. 166 л.
- Буддийские наказы и пророчества в культуре калмыков и ойратов. Факсимиле рукописей. Предисл., введ., библиогр., транслитер., пер., перелож., глосс., прилож. Б.В. Меняева. Элиста, 2016.
- Гедеева Д.Б. Жанр буддийских посланий в письменной и устной традициях калмыков // "Джангар" и эпические традиции народов Евразии: проблемы исследования и сохранения. Элиста, 2011. С. 63-66.
- Музраева Д.Н. Буддийские письменные источники на тибетском и ойратском языках в коллекциях Калмыкии. Элиста, 2012.
- Музраева Д.Н. О малоизвестной ойратской рукописи, именуемой Mila burxani zarliq ("Изречения Будды Милы") // Материалы Международной научной конференции "Единая Калмыкия в единой России: через века в будущее", посвященной 400-летию добровольного вхождения калмыцкого народа в состав Российского государства (г. Элиста, 13-18 сентября 2009 г.). Ч. II. Элиста, 2009. С. 262-266.
- Подгорбунский И.А. Буддизм, его история и основные положения его учения. Вып. 2. Иркутск, 1901.
- Сазыкин А.Г. Рукописная книга в истории культуры монгольских народов // Рукописная книга в культуре народов Востока (очерки). Кн. 2. М., 1988. С. 423464.