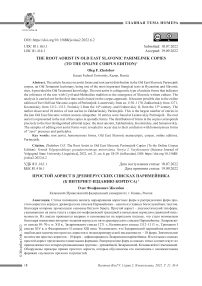Простой аорист в древнерусских списках Паримейника (к интернет-изданию корпуса)
Автор: Жолобов Олег Феофанович
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 6 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу варьирования аористных форм и распределения форм простого аориста в корпусе древнерусских списков Паримейника - одного из главных богослужебных текстов, благодаря которому происходило освоение Ветхого Завета. Простой аорист - диагностический тип форм, указывающих на связь текста с кирилло-мефодиевской традицией и начальным периодом славянской письменности. Их анализ проводится впервые и основывается на корпусном подходе, что стало возможным благодаря появлению интернет-издания корпуса из пяти древнерусских списков Паримейника: Лазаревского списка 50-70-х гг. XII в., Захариинского списка 1271 г., Козминского списка 1312-1313 гг., Троицкого I списка XIV в. и Федоровского II списка XIII века. Установлено, что Захариинский паримейник включает наибольшее количество простых аористов в позднедревнерусской письменности - 18 форм. Значительное количество простых аористов - 10 форм - зафиксировано в Лазаревском паримейнике. В остальных списках простой аорист представлен единичными формами. Распределение форм в списках точно соответствует их принадлежности к четырем редакционным группам - древнейшей, Захарьинской, Козминской и Семеновской. Обнаружены примеры правки простого аориста, которые обусловлены его смешением с омонимичными формами «нулевого» презенса и причастий.
Простой аорист, омонимичные формы, древнерусские рукописи, корпус, интернет-издания, паримейник
Короткий адрес: https://sciup.org/149141654
IDR: 149141654 | УДК: 811.163.1 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2022.6.2
Текст научной статьи Простой аорист в древнерусских списках Паримейника (к интернет-изданию корпуса)
DOI:
Паримейник как богослужебный текст с избранными ветхозаветными и отдельными новозаветными чтениями, бывший постоянно на слуху, оказывал существенное влияние на древнерусский язык в различных его узуальных разновидностях, наряду со служебными Евангелием и Апостолом. Славянский перевод Паримейника связывают с кирилло-мефо-диевской миссией (см.: [Киас, 1955; Mareš, 1988]). В качестве богослужебного текста он был унаследован в славянской епископии Климента Охридского, а в конце X в. в ЗападноБолгарском царстве получил кириллическую транскрипцию и поновленные редакции, судя по истории создания и эволюции служебного Евангелия (см.: [Пентковский, 2019]).
Полных книжных изданий древнерусских списков Паримейника до сих пор нет. В Скопье в 1998 г. был издан западноболгарский Григоровичев паримейник XII–XIII вв. [Рибарова, Хауптова, 1998], относящийся к изолированной разновидности древнейшей редакции. В издании приведены разночтения по западноболгарскому Лобковскому пари-мейнику 1294–1320 гг. и древнерусскому За-хариинскому паримейнику 1271 года. В 2005 г. в Белграде был издан сербский Белградский паримейник начала XIII в., текст которого, к сожалению, плохо сохранился и имеет большие утраты [Jовановић-Стипчевић, 2005].
В составе Казанской электронной коллекции славяно-русских памятников письменности XII–XIV вв. на портале «Манускрипт» недавно впервые был опубликован корпус древнерусских списков Паримейника, в который вошли пять рукописей: Лазаревский паримейник 50–70-х гг. XII в. (далее – Лз); Захариинский паримейник 1271 г. (далее – Зх); Козминский паримейник 1312–1313 гг. (далее – Кз); Троицкий I паримейник второй половины XIV в. (далее – Тр); Федоровский II па-римейник второй половины XIII в. (далее – Фд) (Казанская коллекция 2007–2022). Издания являются машиночитаемыми, сопровождаются цифровыми фотокопиями рукописей, модулем поиска, модулями формоуказателей – прямого, обратного, количественного, указателем чтений. Таким образом, появилась возможность корпусного исследования Паримейника, в том числе в лингвотекстологическом плане.
Согласно исследованию А.А. Пичхадзе, посвященному выявлению редакционных типов Паримейника на материале чтений книги Исход, названные пять рукописей распределяются по следующим редакционным типам: Лазаревский (Сковородский) пари-мейник относится к древнейшему типу; За-хариинский паримейник представляет особую Захарьинскую редакционную группу (очерк языка см.: [Zholobov, 2016]); Козминский и Федоровский II паримейники – Козминскую группу; Троицкий I паримейник – Семеновскую группу. Захарьинская группа определяется как редакция древнейшего типа, включающая спорадическую правку по типу чтений Семеновской группы. Козминская и Семеновская редакционные группы имеют общий протограф, в который вносились правки по греческому тексту: спорадические и случайные в первом случае и относительно систематические – во втором [Пичхадзе, 1991, c. 151–157]. Вместе с тем А.А. Пичхадзе отмечает, что «текстологическая группировка списков может изменяться от паримьи к па-римье: паримейник, принадлежащий к одной текстологической группе в одной паримье, в другой может уже относиться к другой группе или даже к другой редакции» [Пичхадзе, 1998, c. 7]. Поэтому проблема лингвотекстологического описания славянского Паримейника до сих пор остается открытой.
В дальнейшем изложении определяются лингвотекстологические характеристики списков Паримейника на основе корпусного описания распределения форм простого аориста. Простой аорист рассматривается как важнейшая лингвотекстологическая характеристика в определении редакционных типов в ходе эволюционирования текста служебного Евангелия в начальный период славянской письменности [Пентковский, 2019, c. 107 и др.]. Простой аорист обладает, наряду с некоторыми другими глагольными формами, повышенной диагностической значимостью при классификации текстов [Жолобов, 2020, c. 88–91]. Вместе с тем история простого аориста в древнерусской письменности представляет самостоятельный интерес (см.: [Мольков, 2017]).
Результаты и обсуждение
Генезис и системный статус простого аориста
Простой аорист возводят к формам индоевропейского безаугментного имперфекта, то есть инъюнктива (см.: [Елизаренкова, 1982, с. 281–283; Мейе, 2000, с. 199, 203; Семереньи, 1980, с. 317]). Его морфонологическая невыразительность – отсутствие особых суффиксальных показателей – стала основанием для нового удвоения в системе претеритов в праславянском и восстановления индоевропейского трехчленного противопоставления, включающего новый тип имперфекта, который выполнял функцию видовой формы прошедшего времени (см.: [Жолобов, 2017а, с. 26–33; Poldauf, 1956, S. 163]). Таким образом, простой аорист в древнеславянских источниках – это индоевропейско-праславян-ский архаизм. Поскольку зоны устойчивости простого аориста связаны с юго-западными южнославянскими диалектами, носителями которых были Кирилл и Мефодий, а также их ученики, в богослужебных переводных текстах простые аористы диагностируют их кирилло-мефодиевское происхождение, а затем связь с охридской книжной традицией. В собственно восточноболгарских и восточнославянских источниках простой аорист не употреблялся, но это связано, по-видимому, не с диалектными ограничениями, а с тем этапом в исторической трансформации аориста, когда морфологически невыразительный тип простого аориста был заменен новым сигматическим. Поскольку при редактировании богослужебных текстов в середине и конце X в. простой аорист постепенно заменялся новосигматическим и в Западной Болгарии, его скорее следует считать ранним этапом в эволюционировании аориста, нежели сугубо диалектной юго-западной формой. Так, в наиболее ранней редакции служебного четвероевангелия (глаголическом Зографском Евангелии [Пентковский, 2019, c. 104]) соотношение форм типа ведъ и ведохъ почти равное – 123 к 120 [Vondrák, 1912, S. 504]). Для древнерусского языка раннего периода все это означает, что аорист как таковой являлся общеузуальной, а не собственно книжной формой. Если бы аорист был неизвестен живой речи, то в книжный язык была бы перенесена целиком система форм, восходящая к кирил-ло-мефодиевским переводам богослужебных книг и включающая простой аорист. В таких оригинальных сочинениях, как Слова Кирилла Туровского, отличающихся наиболее сложной системой вариативных форм глагола, простого аориста тем не менее нет [Жолобов, 2017б].
Такие архаичные глаголические тексты, как Мариинское Евангелие, Клоцов сборник и Синайская псалтырь, вовсе не содержат аористов типа ведохъ, в них употребляются только аористы типов ведъ и вѣсъ (см.: [Vondrák, 1912, S. 503–504]). Если в глаголическом краткоапракосном Ассеманиевом Евангелии простой аорист еще значительно преобладает над сигматическим тематическим (отношение 142 к 26), то в древнерусском краткоапракос-ном Остромировом Евангелии 1056–1057 гг. нашлась лишь форма 2-го л. мн. ч. възможе-те. Хотя отсутствие простых аористов в этом тексте наблюдается, несмотря на западноболгарский протограф [Пентковский, 2019, с. 113–114], на фоне современной этому протографу восточноболгарской Саввиной книги с 66 простыми аористами (при 78 новосигматических) [Vondrák, 1912, S. 503–505] и таких кратких апракосов древнерусского письма, как Погодинское Евангелие XI в., где простой аорист составляет довольно существенную величину – 22 формы [Мольков, 2017, c. 181], ситуация с распределением вариативных форм в Остромировом Евангелии может отчасти обусловливаться русификацией. Рукопись в целом характеризуется масштабным отражением русизмов [Ван-Вейк, 1957, c. 55]. О том, что русификация такого типа в целом имела место, говорит, например, замена простого аориста 3-го л. мн. ч. прѣвъзидоу в Пандектах
Антиоха XI в. формой прѣвъзидоша в списке Пандектов в Троицком сборнике XII–XIII вв. (см.: [Паймина, 2012, c. 63]), притом что, как указывает В.М. Живов, древнерусский список Пандектов Антиоха XI в. является непосредственным антиграфом Пандектов Антиоха в Троицком сборнике [Живов, 2006, c. 18]. Простые аористы 2–3-го л. ед. ч. веде, може, рече и т. п. вместе с тем оставались единственно возможными формами аориста от инфинитивных основ на согласный.
Нужно заметить, что целый ряд форм простого аориста имел омонимичные параллели. Так, формы 1-го л. ед. ч. типа могъ, съпасъ совпадали с именными формами действительных причастий прошедшего времени в им. п. ед. ч. муж. и сред. рода. Коммуникативные осложнения должно было вызывать совпадение форм простого аориста в большей части парадигмы с формами презенса, включая нулевые формы презенса 3-го л. ед. и мн. ч. типа др.-рус. (при)иде и (при)идоу, которые, являясь реликтами индоевропейского инъюнктива, имели тождественное с простым аористом происхождение. Омонимия данного типа в древнерусской письменности спорадически сказывалась в ошибках – заменах простого аориста, совпадающего с нулевым презенсом, регулярными формами настоящего времени на -ть. Тем не менее омонимия в случае с 3-м л. мн. ч. поддерживала сохранение отдельных форм простого аориста ввиду общности грамматических значений лица и числа.
Распределение форм простого аориста в корпусе
Древнерусские списки Паримейника сохранили довольно много простых аористов, которые, однако, очень неравномерно распределены в списках, отражая, таким образом, сложность лингвотекстологической истории и разнородность их антиграфов.
З. Рибарова привела полный перечень простых аористов в Григоровичевом пари-мейнике XII–XIII вв. (далее – Гр) [Рибарова, 2005, c. 156].
В рукописи обнаружилось 42 формы от глагола ити и приставочных образований от него. В перечне имеются отдельные неточ- ности. Так, форма внидѫ 32r5 – это нулевой презенс-футурум (⁘в҃⁘в҃: ѿ въсѣхъ вни/дѫ к тебга ⁘ питати СА с тобоѧ ⁘ мѫжъскъ полъ/ и женъскъ ⁘ тъ! же прими себга ѿ въсѣхъ бра/шнъ ⁘ ѧже имате ѣсти Бытие 6: 20–21). В то же время была пропущена форма простого аориста 3-го л. дв. ч. прѣидета 8r17 (и растѫпи СА вода сѫ/доу и сѫдоу ⁘ и прѣидета ѡба по соухоу 4 Царств 2: 8). Количественное распределение форм по лицам и числам следующее: 3-е л. мн. ч. – 30 форм, 1-е л. ед. ч. – 12 и 3-е л. дв. ч. – 1 форма. Новосигматический аорист представлен лишь 8 формами данных глаголов. Соотношение форм простого и новосигматического аориста у глагола обрѣсти – 7 (4 формы 3-го л. мн. ч. и 3 формы 1-го л. ед. ч.) к 1. Один омограф – причастная форма обрѣтъ 77r13 была ошибочно определена как аористная (да бѫдѫ оубо ѡбрѣтъ/ бл҃годѣтъ прѣ тобоѧ Исход 33: 13). Приводится 15 форм других 10 глаголов (12 форм 3-го л. мн. ч., 2 формы 1-го л. ед. ч., 1 форма 3-го л. дв. ч.) с параллельными формами новосигматического аориста в ряде случаев. Форма 3-го л. дв. ч. простого аориста приведена ошибочно – это омонимичная форма презенса-футурума ѿвръзетѣ СА (Гр 21v15: вѣдѣше бо бъ҃ ѣко въ нъже дн҃ъ снѣ/ста ѿ него ѿвръзетѣ СА ѡчи ваю ⁘ и бѫдета ѣко ба҃ Бытие 3: 5), а форма 1-го л. ед. ч. съпасъсѧ (сп҃съ же сꙙ азъ единъ и придъ въЗвга/ стити 71r26 Иов 1: 17) пропущена. Общее количество простых аористов – 64 формы. Довольно большое количество форм 1-го л. ед. ч. (17 форм) свидетельствует о жанрово-стилистических особенностях ветхозаветных текстов, в которых, наряду с нарративными пассажами, содержатся драматургические фрагменты, основанные на прямой речи. Несколько глаголов употребляются только в новом аористе. Так, глагол вести и приставочные образования от него имеют только новые формы (6 форм). Встречаются единичные формы от других глаголов (9 форм). Тем не менее в Григоровичевом паримейнике преобладание простых аористов над новосигматическими выражено сильнее, чем в некоторых старославянских памятниках на глаголице, что доказывает большую близость рукописи протографическому состоянию. Редактирование здесь проявилось лишь в устранении аористов типа принѣсъ и пѧсъ, которые представлены в старославянских глаголических текстах. Форма сигматического аориста приѫсь 79v сохранилась в западноболгарском Лобковском паримейнике 1294–1320 гг., наряду с несколькими формами простого аориста [Рибарова, 2005, c. 181].
Корпусное рассмотрение паримейников показало, что ближе всего к Григоровичеву паримейнику по такой архаичной характеристике, как употребление простого аориста, находится Захариинский паримейник, несколько дальше отстоит Лазаревский пари-мейник, остальные рукописи отстоят еще дальше, поскольку имеют только единичные примеры.
Приведем все разночтения, связанные с простым аористом в древнерусских списках Паримейника (после адреса контекста в скобках ведется подсчет форм простого аориста, знак «+» обозначает совпадение с формой Гр, знак «-» – отсутствие совпадения). Разночтения приводятся на фоне Григоровичева паримейника с опорой на употребление Захариинского паримейника. Контексты по разным источникам даются полностью в случае расхождений в переводе, в других случаях – только аористные формы. Указываются соответствующие ветхозаветные чтения. Выносные буквы вставляются в строку в круглых скобках. В квадратных скобках приводятся плохо читаемые или нечитаемые графемы.
-
(1) Гр внидѫ 6v1.4 (Исход 14: 22–23).
Зх и сътв[о]/ри море соушю ˙ и р[а]/здѣлисѧ вода ˙ и/ вънидоша сн҃в[е]/ изл҃ви посредѣ/ морѧ ˙ по соухоу ˙ [и]/ вода имъ стѣн[а]/ ѡ десноую ˙ и ст[ѣ]/на ѡ шююю ˙ и по/гнаша же ѥгоу//птѧне ˙ и вънидоу/ въ слѣдъ ихъ 9г–10а (1+).
Кз, Лз, Тр, Фд и сътвори море соуш^/ и раздѣлисѧ море./ и вънидоуть сн҃ве/ изл҃ви посредѣ морѧ/ по со-ухоу⁘/ И вода имъ стѣна о/ десноую. и стѣна/ о шююю. погъна/ша же ѥгюптѣ/нѣ въ слѣдъ ихъ Лз 94б (вторая форма отсутствует); створи море сѹшю ˙/ и раздѣлисѧ вода и/ внидоша сн҃ве изр҃лї/ви посрѣде морѧ по/ сѹхѹ ˙ и вода имъ/ стѣна ѡ дѣсноую и/ стѣна ѡ шююю по/гнаша же ѥгуптѧ/нѣ за ними и вни/доша въ слѣдъ ихъ Кз 5б; внидоша/ … внидоша/ Фд 89в; Тр – чтение отсутствует.
В Лз представлена правка аористной формы, воспринятой как нулевой презенс-футурум, на регулярную форму с окончанием -ть. Аналогичный пример в Зх с заменой падоу на падоуть и комментарий см. ниже (контекст (22)).
-
(2) Гр ѡбрѣтошѫ 7r5, придѫ 7r5 (Исход 15: 22–23).
Зх
-
и/ не ѡбрѣтоу вод^/ да б^ша пили ˙/ при-доша же въ/ мѣрьроу 10г (2-).
Кз, Лз, Тр, Фд и не ѡбрѣ/тахѹ вод^ пити ˙/ и придоша въ мѣ/ррѹ Кз 6а; Лз, Тр, Фд – чтение отсутствует.
-
(3) Гр придѫ 7r18.21, въздвигнѫ же СА 7r20 (Исход 15: 27; 16: 1).
Зх и при/доу въ ѥлимъ ˙ и/ бѣста тоу ˙вӏ҃˙ исто/чьника водъ ˙ и/ ˙о˙҃ стьблъ фѵни/къ ˙ и ста-ша тоу/ при водахъ ˙ въ/здвигоу же сѧ ѿ/ ѥлима ˙ и прии/доу въ вьсь сънь/мъ сн҃въ из҃лвъ ˙/ въ поуст^ню си/нъ 11б (3+, 4-, 5+).
Кз, Лз, Тр, Фд и приведе га въ/ ѥлимъ и бѧ(ш)҃ тѹ ˙в҃ӏ˙/ источника водъ и/ о҃˙ стьбль фуничь/скъ ˙ и сташа при во/дахъ въздвигоша/ же сѧ ѿ ѥлима ˙ и прї/ ведѹ въ вьсь снемъ/ сн҃въ изл҃въ ˙ въ пѹ/стЪ|ню синъ Кз 6б (1+); Лз, Тр, Фд – чтение отсутствует.
Форма 3-го л. мн. ч. Гр въздвигнѫ З. Ри-баровой толкуется как презенс без окончания -тъ [Рибарова, 2005, c. 160]. Возможно, однако, рассматривать ее и как искаженную форму простого аориста с обобщением -н- основы, в отличие от закономерной формы Зх въздви-гоу, поскольку она находится в окружении двух форм простого аориста.
-
(4) Гр мимоидѫ 8r1(Иисус Навин 3: 17).
Зх и/ вьси сн҃ве из҃лви ˙/ мимоидоу по соу/хоу 12б (6+).
Кз, Лз, Тр, Фд и вь/си сн҃ве изл҃ви мимо/идоша по соухоу Лз 1в; мимоидо/ша Кз 7б; Тр, Фд – чтение отсутствует.
-
(5) Гр – чтение отсутствует.
Зх и ѿ/ всехъ гадъ соущи/хъ по земли ˙ дъ/ва дъва ˙ въни/доу къ ноѥви/ въ ковьчегъ ˙ моу/жьскъ полъ и же/ньскъ ˙ гакоже/ заповѣда ѥмоу/ бъ҃ 81а (7-).
Кз, Лз, Тр, Фд и ѿ всѣхъ га/дъ нечистъихъ соу/щихъ по земли дво/ѥ двоѥ. вънидоша/ къ ноѥви въ ковьче/гъ. моужьскъ полъ/ и женьскъ. гакоже/ заповѣда км^ б҃ъ Лз 38г; внидоша Кз 51б; внидош(а) Тр 34в; внидоша Фд 21а.
-
(6) Гр внидѫ 35v13.16 (Бытие 7: 15–16).
Зх и вси скоти на ро/дъ ˙ и всѧкъ гадъ/ двизаисѧ по зе/мли на родъ ˙ и всѧ/ка птица на ро/дъ ˙ вънидоу къ/ ноѥви въ ковь/чегъ ˙ двоѥ двоѥ ˙/ ѿ всАкога плъти/ въ неиже ѥсть/ дх҃ъ животьнъ/и въходАщага/ моужьскъ полъ/ и женьскъ ˙ ѿ всА/кога плъти въни/доу 84б (8+, 9+).
Кз, Лз, Тр, Фд и вси звѣриѥ/ на родъ. и всѧкъ/ гадъ движаисѧ по/ земли на родъ. и/ всѧка птица на/ родъ. и вънидоша/ въ ковьчегъ. двоѥ/ двоѥ. ѿ всАкога/ плъти въ неиже ѥ/сть дхъ҃ животь/нъ. и въходѧщии./ моужьскъ полъ и/ женьскъ. ѿ всѧко/га плъти вънидо/ша къ ноѥви Лз 41б; Кз – чтение отсутствует; внидоша Тр 36б (вторая форма отсутствует); внидоша Фд 22г (вторая форма отсутствует).
-
(7) Гр придѫ 50v6 (Исайя 42: 9).
Зх ни изво/лении мои/хъ истоука/ннъ хъ ˙ гаже/ испьрва се при/доу 127в (10+).
Кз, Лз, Тр, Фд изволенї/и моихъ истѹка/ньнъмъ ˙ гаже испь/рва се приде Кз 69г; приде Фд 46а; Лз – чтение отсутствует; ни ізволени моіхъ/ істуканьнъмъ га/же ісперва се приі/доша Тр 56б.
-
(8) Гр въЗъдж 64v18.24 (Бытие 50: 7– 9); придѫ 64v25 (Бытие 50: 10).
Зх и възи/де иѡси/фъ по/гретъ ѡцѧ҃ сво/ѥго ˙ и възи//доша с нимь ˙/ вси ѡтроци/ фараѡнови ˙/ и старьци/ домоу ѥго ˙/ и вси старьци/ землѧ ѥгоу/ птьскъ ˙ и вси/ домашнии/ иѡсифови ˙/ и братига ѥго ˙/ и всь домъ ѡ/ц҃ѧ ѥго ˙ а родъ/ и скотъ ˙ и н^/тоу ˙ ѡстави/ша въ земли/ гесемьсцѣ и/ възидоша/ съ нимь коле//сницѧ ˙ и сн^/Зници и бъ(с)/ плъкъ вели/и зѣло ˙ и при/доша на гоу/ мно аната/дово ˙ еже ѥ/сть ѡб онъ полъ/ ѥрдана 162в–163а.
Кз, Лз, Тр, Фд и възиде иоси/фъ погретъ оц҃а своего./ и възидоу съ нимь вь/си отроци фараѡви./ и старь-ци домоу его./ и вьси старьци землѧ/ егуптьскъ. и вьси до/мовьни иосифови и/ братиѧ его. и вьсь до/мъ оц҃а его. и родъ ї ско/тъ. и ноутоу остави/ ша въ земли егу/птьсцѣї. и възи/доу съ нимь ко-лесни/ца и съноузьници и/ вы(с) пълъкъ велии зѣ/ ло. и придоу на гоумь/но стадово. еже есть о/Б онъ полъ иордана Лз 73а (1+, 2+, 3+); и и/зиде иѥсифъ погрѣ/тъ ѡца҃ своѥго ˙ изи/доша с нимь ѡтро/ци фараѡнови ˙ и/ старци домѹ ѥго ˙/ и старци всега земь/лѧ кгупт^тьскъ ˙ и/ всь домъ ѥсифовъ ˙/ и бра(т)га ѥго и всь до/мъ ѡца҃ ѥго ˙ ро(д) и ско/ ти и нѹта ˙ ѡставӏ/ша въ земли геси//мьстѣ ˙ и възидоша/ с нимь ˙ колѣсницѣ/ и всадници ˙ и бъ(с )҃ пъ/лкъ великъ зѣло ˙ и/ изидоша на гѹмно/ ататово ˙ ѥже ѥсть ѡ/б онъ полъ иѥрдана Кз 89б–в; възиде ѡсифъ погре//стъ ѡц҃а своѥго и взи/доша с нимъ ѡтроци/ фаѡсови ˙ і старци до/му ѥго и всега земл(ѧ)/ кгупетьскъга ˙ и ве/сь домъ ѥсифовъ и бр(ат)/га ѥго ˙ и весь домъ ѡ/ц҃а твоѥго ˙ і родъ и ѡвц(ѧ)/ и волъ ѡставиша въ/ землѣ гесемьстѣ ˙ и/ снидоша с нимъ wpy/жьга і всадници ˙ і бъ(с)/ с нимъ полкъ вельі зѣ/ло ˙ і придоша на гумно/ ататово ѥже ѥсть ѡ/б онъ полъ ѥрдана Тр 74г–75а; Фд – чтение отсутствует.
-
(9) Гр внидѫ 69r1 (Исход 1: 1).
Зх кождо/ съ всѣмь домъ/мь своимь ˙/ въни-доша 173б.
Кз, Лз, Тр, Фд къжьдъ съ вь/сѣмь домъмь своїмь/ въни-доу Лз 77в (4+); кожь/до съ всѣмь домо/мь своимь внидо/ша Кз 94г; Тр, Фд – чтение отсутствует.
-
(10) Гр придѫ 70r7 (Иов 1: 6).
Зх и/ се придоша а/нг҃ли бж҃и ˙ прѣ/дъстати прѣ/дъ г(с҃)мь. и ди/гаволъ приде/ съ ними 176б.
Кз, Лз, Тр, Фд и се придоу анг҃ли бж҃и/и. прѣдъстоѧти прѣ/дъ гм҃ь. и дьѧволъ пр[и]/де съ ними Лз 78г (5+); прӏ/доша Кз 96б; придоша Фд 68а; придоша Тр 81в.
-
(11) Гр въвръгѫѧ (sic!) 82r31 (Иона 1: 15).
Зх
Чтение отсутствует.
Кз, Лз, Тр, Фд и при/ѧша ионоу. и въвь/рьгоу и въ море. и ста/ море отъ въЗмоуще/нига Лз 91б (6+); въвьргоша Кз 113а; въвьрго/ша Фд 84г; въвер-коша (sic!) Тр 96а.
-
(12) Гр идоста 53r20 (Бытие 22: 6).
Зх и идете оба въ/коупѣ 134б (11-).
Кз, Лз, Тр, Фд и идоста оба вък^/п^ Лз 59б; и/доста Кз 73в; идо/ста Фд 50а; ідо/ста Тр 59г.
Архаичная сама по себе форма простого аориста 3-го л. дв. ч. идете в Зх, кроме того, имеет окончание -те, относящееся к архаическому кирилло-мефодиевскому типу употребления.
-
(13) Гр wвргaтъ 77r11 (Исход 33: 13).
Зх аще/ оуво мвр^то/хъ блгд^ть/ предъ товою ■/гави ми сѧ/ самъ 195г.
Кз, Лз, Тр, Фд аще оубо/ ѻбрѣтъ блг(д)ть предъ то/бою гави ми са самъ Тр 90а (1+); аще оуво овр^тохъ блг҃о/дѣть прѣдъ тобою. ѧ/ви ми сѧ самъ Лз 87б; аще оу/во мвр^тохъ влг(д)ть/ пр^(д) тобою ■ гави мї/ сѧ самъ Кз 106б; ѡбрѣто/хъ Фд 79а.
-
(14) Гр ѡбрѣтъ 77r20 (Исход 33: 16).
Зх
Чтение отсутствует.
Кз, Лз, Тр, Фд и ка/ко разоумьно боудеть/ въ истиноу. ѧко обрѣтъ/ бл҃годать прѣдъ тобою./ азъ же и людие твои. нъ/ грѧдоущю тебе съ нами/ и прославимъСА Лз 87б (7+); гако разумно ву/ деть во Тстину гако/ овр^тъ влг(д)ть ГО теве ■ / аз же ї людьѥ твої ˙/ но грѧдущю тебѣ с на/ми прославимсѧ Тр 90б (2+); и како ра/зѹмно будеть въ/ истину ■ гако мвр^/тохъ влг(д)ть ГО теве а/ зъ и людьѥ твои ˙ нъ/ грѧдущю ти с намї/ и прославимсѧ Кз 106в; ѡбрѣ/тохъ Фд 79б.
В Тр можно предполагать в двух приведенных выше случаях обобщение причастной формы из соседнего контекста: да/ буду оубо ѻбрѣтъ блг(д)ть/ пред тобою Тр 90а. Г.А. Мольков приводит противоположный пример, когда в этом контексте, как и в соседних, обнаруживается аористная форма ѡбрѣто(х) вместо причастной, которая ожидается в этом случае, в позднем списке 1585 г. [Мольков, 2017, c. 188, примеч. 17]. В наших источниках аналогичная картина наблюдается в двух паримейниках Козминской редакции – Кз и Фд, в которых причастная форма съпасъ заменена на новосигматический аорист съпасохъ вместе с введением союза и. Основанием для такой ошибочной правки была исходная омонимия форм простого аориста 1-го л. ед. ч. и действительного причастия прошедшего времени муж. р. им. п. ед. ч.
-
(15) Гр: сп҃съ же сꙙ азъ единъ придъ възвѣстити 71r16 (Иов 1: 15).
Зх, Лз, Тр спсъ/ же са азъ ^ди/н^и ■ придо/хъ ■ възвѣсти/ть тебѣ Зх 179г; и сп҃съ же/ сѧ единъ азъ придохъ/ възвѣститъ тебе Лз 80б; спасъсѧ азъ ѥди/нъ придохъ възвѣ/ститъ тебѣ Тр 83б.
Кз, Фд сп҃с(о)/х же сѧ азъ ѥдинъ ˙/ и придохъ възвѣ/ститъ тобе Кз 98а; сп҃сохъ же сѧ// азъ ѥдинъ и при/дохъ възвѣсТитЪ/ тобе Фд 69г–70а.
Этот контекст в паримии повторяется 4 раза, однако в третьем контексте в Гр содержится союз и, следовательно, употреблен простой аорист, неучтенный в перечне З. Ри-баровой. В таком случае и в других рукописях при союзном употреблении здесь следует усматривать простой аорист. В Лз союзное употребление обнаруживается и в четвертом контексте, а в Зх встречается только в нем. В греческой Триоди в этой паримии в Страстную среду в первых двух контекстах читается причастие, а в третьем и четвертом – аорист (ГречТриодь):
-
(16) Причастие (Иов 1: 15, 16):
сюОкгс 8е ey™ ^ovo^ ^Z0ov то™ aпaYYeSla^ σοι ‘спасшись же я один, пришел возвестить тебе’.
Аорист (Иов 1: 17, 19):
dotoOnv 5е ey™ ^ovo^ ка1 ^X9ov то™ aпaYYsSXa^ σοι ‘спасся же я один и пришел возвестить тебе’.
-
(17) Гр: сп҃съ же сꙙ азъ единъ и придъ възвга/стити 71r26 (Иов 1:17); спсъ же с а азъ единъ придъ въз(--)/стити 71v1 (Иов 1: 19).
Зх, Лз, Тр спс҃ъ же сѧ/ азъ ѡдинъ ˙ придо/хъ ˙ въ/ звѣстить те/бѣ Зх 179г (третий контекст); сп(с)҃ъ/ же сѧ азъ ѡди/нъ и придо/хъ ˙ възвѣсти/ть тебѣ Зх 180в (четвертый контекст) (12-); и спс҃ъ/ же азъ единъ и придо/хъ възвѣсти (sic!) тебе Лз 80в (8+); ї сп[҃съ]/сѧ азъ единъ. и придо/хъ възвѣститъ тебе Лз 80г (9-); спс҃ъ же сѧ азъ/ ѥдинъ придохъ възвѣ/ ститъ тебѣ Тр 83б (третий контекст); спс҃ ъ же сѧ азъ ѥдинъ/ придохъ възвѣстъ/тъ (sic!) тебѣ Тр 83в (четвертый контекст).
Кз, Фд сп҃сох же/ сѧ азъ ѥдинъ ˙ и при/дохъ възвѣститъ то/бе Кз 98в (четвертый контекст, третий в рукописи пропущен); сп҃сохъ же сѧ азЪ/ ѥдинъ и придохЪ/ възвесТитъ тебе Фд 70б (четвертый контекст, третий в рукописи пропущен).
Формы простого аориста в данной пари-мии отчетливо разводят рукописи по четырем редакционным группам, включая древнейшую.
В Зх зафиксирован пример правки простого аориста, омонимичного именной форме причастия, на членное причастие.
-
(18) Гр възъдвигъ 52v9 (Исайя 11: 13).
Зх азъ/ ВЪЗДВИГ^и/ съ правдою ц(с҃)рѧ 132в.
Кз, Лз, Тр, Фд азъ въздвї/гохъ съ правьдою цр҃ѧ Лз 58б; азъ въ/здвигохъ с правдо/ю ц(с)҃рѧ Кз 72в; въздви/гохъ Фд 49а; азъ въздви/гохъ правдою ц(с)҃рѧ Тр 59а.
-
(19) Гр възнесъ 14r3; ѿвръгохѫ СА 14r3–4 (Исайя 1: 2).
Зх сл^ши/ нб҃о и въноуши/ землѥ ˙ гако г(с҃)ь/ възъгласи ˙ съ|/нъ1 родихъ и въ/знесохъ ˙ ти же/ сѧ ѿвьргоу ме/не 27г (13-).
Кз, Лз, Тр, Фд
Сл^ши нб҃о и въноу/ши земле. гако г҃ь/ гл҃а сн'ы родихъ и/ възв^сихъ. ти же/ сѧ ѿвьргоша мне Лз 10а; съ/лъ1ши нб҃о вноушї/ земле ˙ гако г҃ь гл҃а сн^ родихъ и възъ/несохъ ˙ ти же ѿвь/ ргошасѧ мене Кз 18в; Фд – чтение отсутствует; сл^/ши нб҃о і внуши земь/ль ˙ гако г(с҃)ь гл҃а снъ! ро/дихъ і възнесохъ ти/ же мене не ѿверзош(а)/ сѧ (sic!) Тр 3б.
В последнем контексте наблюдается наиболее яркое в морфологическом и генетическом планах противопоставление: кирилло-мефо-диевская форма простого аориста с вакерна-гелевским рядом энклитик же сѧ ѿвьргоу в Зх, с одной стороны, и новый южнославянский тип аориста с окончанием имперфекта и постпозицией энклитики ѿвръгохѫ са в Гр, с другой стороны. Это противопоставление подчеркивает связь Зх с первоначальным текстом Паримейника в ряде чтений – без сомнения, там, где используется простой аорист.
-
(20) Гр ищезѫ 74r31 (Иеремия 12: 4).
Зх
ѿ Злоб^/ живоущии/хъ на земли ˙ ищезно-уша/ скоти и пти/цѧ. гакоже рѣ/ша. не види/ть б҃ъ/ поути/и нашихъ 188г.
Кз, Лз, Тр, Фд
ѿ злоб^ жив^/щихъ на земли. ищезоу/ скоти и птицѧ. ѧко/ рѣша. не оузьрить б҃ъ/ по-утии нашихъ Лз 84б (10+); ѿ Злоб^// живущихъ на зем(л)ї ˙/ ищезоша птицѣ га/ко реша ˙ не ѹзрить/ б҃ъ пѹтии нашихъ Кз 102в–г; ищезоша Фд 75а; ѿ злобъ живущи(х) на неї ˙ їщезнуша ско/ ти ї птицѧ їхъ гако рѣ/ша не оузрите бо пути/ нашихъ Тр 87б–в.
В приведенном чтении заметно влияние на Зх Семеновской редакции Паримейника, представителем которой является Тр.
-
(21) Гр падѫ 10r2 (3 Царств 18: 39).
Зх и падоу вь/си людьѥ ници/ и рѣша въ исти/ ноу г(с҃)ь тъ ѥсть бъ҃ 17б (14+).
Кз, Лз, Тр, Фд и па/доша вси людьѥ ни/ци ˙ и рѣша въ исти/нѹ то ѥсть б҃ъ Кз 11в; и падоша вси/ людиѥ ниць и/ рѣша во истину гако то ѥсть г(с҃)дь б҃ъ Тр 135г; Лз, Фд – чтение отсутствует.
-
(22) Гр падѫ 32v25 (Исайя 9: 9(10).
Зх в^сок^мь/ ср҃дцемь глю҃ще ˙/ плинти па-доу/ть ˙ нъ придѣте/ да оусѣчемъ ка/мениѥ ˙ и посѣ/чемъ соуками/н^ ˙ и тисиѥ ˙ и/ съзижемъ себе/ стълпъ 75б.
Кз, Лз, Тр, Фд в^соко/мь ср(д)҃цмь гл҃ще ˙ плї/нти падѹ ˙ нъ при/дете да ѹсѣчемъ/ каменьѥ ˙ и посѣ/чемъ сѹкамѧн^/ и тисиѥ ˙ и съзиже/мъ стълпъ Кз 48а (2+); падѹ Фд 17а (1+); в^сокихъ ср(д) цмъ/ гл҃ще плѣньф^ паду/ть ˙ придѣте да посѣ/ чемъ га ˙ і съзижемъ/ собѣ столпъ Тр 31в–г; Лз – чтение отсутствует.
В Зх и Тр снова обнаруживаются одинаковые формы, что обусловлено одной из типичных ошибок при русификации текстов – смешения простого аориста с омонимичной формой нулевого презенса-футурума и добавления стандартной флексии презенса-футуру-ма в 3-м л. мн. ч. Такая же причина ошибочной правки была отмечена в Лз в контексте (1) с заменой вънидоу на вънидоуть. См. аналогичные примеры в древнерусских списках Па-ренесиса при замене простого аориста 3-го л. мн. ч. изидоу, пр(ѣ)идоу Типографского списка на регулярные формы презенса-футурума изидоуть, преидоуть в Академическом и Троицком списках и новосигматический аорист изидоша, прѣидоша в Погодинском списке, а также многочисленные случаи смешения аориста и нулевого презенса в 3-м л. ед. ч. [Zholobov, 2014, p. 127–133].
-
(23) Гр могѫ 29r1 (Исайя 7: 1).
Зх възиде раасонъ/ ц(с҃)рь ирамьскъ ˙/ и ѳакеи сн҃ъ ро/медиѡвъ ˙ ц(с҃)рь/ изл҃въ на иѥру/салимъ въ бра//нь ˙ и не могоу одо/лѣти ѥмоу 65в–г (15+).
Кз, Лз, Тр, Фд възидѣ а/росонъ ц(с)҃рь арамь/скъ ˙ и фекии с҃нъ ро/мѹилевъ ˙ ц(с)҃рь изр/л҃въ ˙ на ѥрл(с)҃мъ въ/ брань ˙ и не могоша/ ѡдолѣти ѥмѹ Кз 42а; не могоша Фд 26в; Лз – чтение отсутствует; взиде/ асоронъ ц(с҃)рь арамьск/ъ и факѣі сн҃ роме/лѣѥвъ ˙ і ц(с҃)рь ізл҃въ/ на ѥр(с҃)лмъ въ брань// і не могоша ѡдолѣ/ти ѥму Тр 26б–в.
-
(24) Гр изнемогостѣ 55r17 (Бытие 27: 1).
Зх
Бы(с) по състарѣ/ни(и) исаковѣ ˙// изне-можеть/ ѡчи ѥго не ви/дѣти 138г (16-).
Кз, Лз, Тр, Фд
Бы(с)҃ по (съ)старѣнии ї/саковѣ. изне-мо/госте очи его не/ видѣти Лз 61в; Бы(с )҃ по състарѣни/и исаковѣ ˙ изне/м(г)о҃ста ѡчи ѥмѹ не/ видѣти Кз 76а; изнемого/ста Фд 53а; Бы(с )҃ по старинѣ ісако/вѣ ˙ ізнемогоста ѡ/чи ѥго ˙/ не видѣти Тр 62а.
Здесь наблюдается еще один пример яркого контраста: в Зх сохранилась форма простого аориста 3-го л. дв. ч. с архаичным окончанием -те (в данном случае с графическим эффектом ь = е, распространенным в новгородских источниках), а в Гр выступает сугубое поновление – новосигматический аорист и окончание -тѣ, являющиеся южнославянской инновацией маркировки окончания по немужскому роду.
-
(25) Гр въвръже 10r9 (4 Царств 2: 21).
Зх приимѣте ми во/дочьрпъ новъ ˙ и/ въсыплете тоу со/ль ˙ и възѧша ˙ и/ принесоша к не/моу ˙ и изиде и/ѥлисѣи ˙ на исходъ водъ ˙ и въвь/ргоу тоу соль 17в (17-).
Кз, Лз, Тр, Фд изиде ѥлисѣи/ въ исходъ водамъ ˙/ и въвьрже тѹ соль Кз 11в; Лз, Тр, Фд – чтение отсутствует.
Можно предположить, что чтение Зх вторично, несмотря на свою архаичность. В нем отразилось выравнивание предикативных форм по числу и обобщение плюрального деятеля – възѧша ˙ и/ принесоша … въвьргоу.
-
(26) Гр – утрата листов (Иоиль 2:22).
Зх гако прозѧ/боу полѧ поусты/ньнага 22г (18-).
Кз, Лз, Тр, Фд гако прозѧбоша/ полѧ поустынь/нага Лз 6в; гако прозѧбоша/ полѧ постыньна/га (sic!) Кз 15в; Тр, Фд – чтение отсутствует.
В Зх сохранился простой аорист прозѧбоу при новом сигматическом аористе прозѧбоша других списков.
Заключение
Результаты проведенного подробного анализа показали, что во всех рукописях встречаются такие диагностические архаические формы, как формы простого аориста, свидетельствующие о непосредственной связанности Паримейника с начальной книжной традицией. Вместе с тем количество и состав форм простого аориста в исследуемых рукописях значительно расходятся. В Заха-риинском паримейнике таких форм 18, и это самое большое количество в известных нам позднедревнерусских источниках в целом. Наиболее показательно то, что, если 10 форм из 18 совпадают с формами Григоровичева паримейника, то по крайней мере в 6 случаях им соответствуют новые формы аориста в Григоровичевом паримейнике. Это свидетельствует о том, что Захариинский паримейник был в ряде чтений ближе к первоначальному тексту, чем источник древнейшей редакции – Григоровичев паримейник, сохранивший наибольшее количество форм простого аориста. Обращают на себя внимание в Захариинском паримейнике такие глубокие архаизмы, как формы простого аориста 3-го л. дв. ч. идете и изнеможеть (где ь = е). В двух случаях поновления Захариинского и Троицкого паримейников вместе противопоставлены чтениям других источников, что доказывает факт влияния Семеновской редакционной группы текстов на Захариинский тип. Довольно много простых аористов (10 форм), несмотря на утраты листов, обнаружено в Лазаревском паримейнике, принадлежащем к древнейшей редакционной группе, так что этот текст должен пополнить список источников с большим количеством простых аористов. Все формы в нем оказались тождественными формам простого аориста в Григоровичевом паримейнике. Козминский и Федоровский II паримейники объединены одной формой простого аориста падоу, а Троицкий I паримейник включает две формы простого аориста 1-го л. ед. ч. ѻбрѣтъ в тождественных контекстах, которые представлены также в Григоровиче-вом паримейнике. Русифицирующая правка простых аористов в случаях типа придоу vs придоуть и въздвигъ vs въЗДВИГ^И обусловлена омонимией простого аориста и нулевых форм презенса-футурума, а также омонимией простого аориста и причастий.
Список литературы Простой аорист в древнерусских списках Паримейника (к интернет-изданию корпуса)
- Ван-Вейк Н., 1957. История старославянского языка. М.: Изд-во иностр. лит. 368 с.
- Елизаренкова Т. Я., 1982. Грамматика ведийского языка. М.: Наука. 439 с.
- Живов В. М., 2006. Восточнославянское правописание XI–XIII века. М.: Яз. слав. культуры. 312 с.
- Жолобов О. Ф., 2017а. Древнерусская грамматика: простые претериты и praesens historicum. Казань: Изд-во Каз. ун-та. 190 с.
- Жолобов О. Ф., 2017б. Язык древнеславянской проповеди: неординарность глагольной морфологии в гомилиях Кирилла Туровского // Словѣне. Т. 6, № 2. С. 137–162.
- Жолобов О. Ф., 2020. Диагностические глагольные формы в древнерусских паримейниках и Толстовском сборнике XIII в. // Труды Института русского языка им. В.В. Виноградова. № 1 (23). С. 88–105.
- Киас В., 1955. Положение исследования в области византийско-славянского паримейника // Byzantinoslavica. [Vol.] XVI (2). C. 374–376.
- Мейе А., 2000. Общеславянский язык. М.: Прогресс. 500 с.
- Мольков Г. А., 2017. Простой аорист в древнерусской письменности // Русский язык в научном освещении. № 1 (33). С. 179–195.
- Паймина О.С., 2012. Языковые особенности Троицкого сборника XII–XIII вв.: дис. ... канд. филол. наук. Казань. 326 с.
- Пентковский А. М., 2019. Славянский перевод Евангелия и его использование в богослужении в IX (посл. треть) – XI вв. // Наслеђе и стварање. Свети Ћирило. Свети Сава: 869–1219–2019. [Т.] 1. Београд: [б. и.]. С. 73–148.
- Пичхадзе А. А., 1991. К истории славянского паримейника (паримейные чтения книги Исход) // Традиции древнейшей славянской письменности и языковая культура восточных славян. М.: [б. и.]. С. 147–173.
- Пичхадзе А. А., 1998. Книга «Исход» в древнеславянском паримейнике // Ученые записки Российского православного университета ап. Иоанна Богослова. № 4. С. 5–60.
- Рибарова З., 2005. Jaзикот на македонските црквнос-ловенски текстови. Скопjе: МАНУ. 245 с.
- Рибарова З., Хауптова З., 1998. Григоровичев паримеjник. I. Текст со критички апарат. Скопjе: МАНУ. 452 с.
- Семереньи О., 1980. Введение в сравнительное языкознание. М.: Прогресс. 408 с.
- Jовановић-Стипчевић Б., 2005. Београдски паримеjник. Почетак XIII века. Текст са критичким апаратом. Београд: Народна библиотека Србије. 495 с.
- Mareš F. V., 1988. Udział sw. Metodego w początkach pismennictwa słowiańskiego // Zeszyty naukowe wydziału humanisticznego. Sławistika 5, Uniwersytet Gdański. № 5. S. 15–22.
- Poldauf I., 1956. Indo-European Personal Endings. A Study of the Channels of Morphological Development // Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft. [Bd.] 9 (2). S. 156–168.
- Vondrák V., 1912. Altkirchenslavische Grammatik. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung. 656 S.
- Zholobov O. F., 2014. On Reflexes of ti- and t-Forms of Verbs in Ancient Russian // Russian Linguistics. Vol. 38, no. 1. P. 121–163.
- Zholobov O. F., 2016. The Synthetic Indicative in Cyril and Methodius’ Sources (The Internet Edition of the Paroemiarion Zacharianum Dating from 1271) // Russian Linguistics. Vol. 40, № 2. P. 153–172.