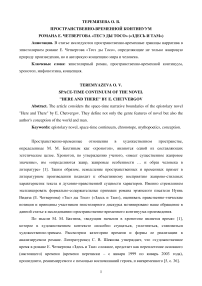Пространственно-временной континуум романа Е. Четвергова "Тесэ ды тосо" ("Здесь и там")
Бесплатный доступ
В статье исследуются пространственно-временные границы нарратива в эпистолярном романе Е. Четвергова «Тесэ ды Тосо», определяющие не только жанровую природу произведения, но и авторскую концепцию мира и человека.
Концепция, мифопоэтика, пространственно-временной континуум, хронотоп, эпистолярный роман
Короткий адрес: https://sciup.org/147248983
IDR: 147248983 | УДК: 808.1:82-31(=511.152)
Текст научной статьи Пространственно-временной континуум романа Е. Четвергова "Тесэ ды тосо" ("Здесь и там")
Пространственно-временные отношения в художественном пространстве, определенные М. М. Бахтиным как «хронотоп», являются одной из составляющих эстетическое целое. Хронотоп, по утверждению ученого, «имеет существенное жанровое значение», им «определяются жанр, жанровые особенности … и образ человека в литературе» [1]. Таким образом, осмысление пространственных и временных примет в литературном произведении подводит к объективному восприятию жанрово-стилевых характеристик текста и духовно-нравственной сущности характеров. Именно стремлением эксплицировать формально-содержательные признаки романа эрзянского писателя Нуянь Видяза (Е. Четвергова) «Тесэ ды Тосо» («Здесь и Там»), оценивать нравственно-этические позиции и принципы участников эпистолярного дискурса мотивировано наше обращение в данной статье к исследованию пространственно-временного континуума произведения.
По мысли М. М. Бахтина, «ведущим началом в хронотопе является время» [1], которое в художественном контексте способно сгущаться, уплотняться, становиться художественно-зримым. Рассмотрим категорию времени и формы ее реализации в анализируемом романе. Литературовед С. В. Шеянова утверждает, что «художественное время в романе Е. Четвергова «Здесь и Там» сложное, предстает как переплетение основного (настоящего) времени (времени переписки – с января 1999 по январь 2003 года), прошедшего, реанимируемого с помощью воспоминаний героев, и вневременного [5, с. 36].
Наиболее широкий временной пласт - прошлое. Оно заминает несколько десятилетий. Воспоминания о прошлом Вияны и Валдая эмоциональны, лиричны и драматичны одновременно. Лирическую струю привносят искренние признания героев, откровения, ощущение молодости, полноты жизни. Вот как героиня вспоминает о весне, теплом лете: «Весной круглолицее солнце словно ласкает лицо Земли. Любила, помню, высоко запрокинув голову, наблюдать за полетом птиц, пока они не скроются в синеве небес. Через какое-то время они вновь выныривали из нее, приветствуя окружающее своей песней… В жаркий летний день любила лежать на спине и долго смотреть в успокаивающую сердце небесную тишь. Растянешься, бывало, на зеленой траве, положишь руку под голову, уткнешься в синеву, будто сама растворяешься в ней...» [2, с. 8] (Перевод здесь и далее подстрочный. - О. Т. ). Трагизм воспоминаний заключается в том, что они не бесконечны, героиня словно просыпается ото сна и осознает свое положение - вернуть прошлое невозможно.
Из воспоминаний героев читатель узнает историю их взаимоотношений. Много лет назад молодые Вияна и Валдай были влюблены друг в друга, встречались, делились своими впечатлениями. Однако они не смогли создать семью, хоть всю жизнь жили воспоминаниями о нежных отношениях молодости. Вот как Валдай вспоминает события сорокалетней давности: «Сегодня, Вияна, у нас день скорби: сорок один год со дня нашей разлуки. Целая жизнь! Словно несколько минут. Не верится! Словно вчера все было. Вспомню - детали перед глазами встают… О расставании не было сказано ни слова. Верили, придет завтрашний день, потом следующий, так и будем встречаться на этом месте. «До завтра», – сказала ты улыбаясь и быстро встала. До завтра. Нет, не дождались мы завтра, не пришло оно.» [2, с. 21-22]. Прошлое для героя - настоящее. В его памяти живы образы, детали, эмоции. Подобные реминисценции из прошлого позволяют раскрыть психологическое состояние героя, его духовный потенциал, подводят читателя к осмыслению глубоких онтологических и философских проблем о времени, о том, что человек неволен управлять им.
У каждого из героев романа - своя жизненная дорога. Судьба жестоко наказала Вияну за содеянное ею «преступление» - убийство нерожденного ребенка, лишила ее радости материнства, отобрала самых близких и родных людей. Трагизм ее положения в том, что ненадолго одарив ролью матери, дав возможность привыкнуть к чужому ребенку как к родному, судьба лишает ее всего. Женщина остается одна, даже умирает она в одиночестве на скамейке у подъезда. Из писем-монологов Вияны становится ясно, что она осознает свой поступок, искренне раскаивается, «герои романа приходят к непреложным ценностям и абсолютной истине, однако изменить в своей жизни они уже ничего не могут…
Антропоцентрическая модель мира Е. Четвергова основана на идее фатализма... Однако писатель не снимает ответственности и с самого человека - духовное бытие человека обусловлено его деяниями и интенциями на протяжении земного существования» [4, с. 133]. Вияна не перекладывает ответственность за свои беды на другого. Очень часто она, а вместе с ней и читатель, задаются вопросом: Как сложилась бы ее жизнь, не убий она своего ребенка, не послушай советов мачехи, не побойся пересудов и сплетен? Письма героини заставляют задуматься о выбранных каждым нравственно-этических принципах.
В эпистолярном пространстве романа воссоздается весь жизненный путь Вияны. Автор представляет характер динамичный, развивающийся не только в земной жизни, но и в загробном, потустороннем мире. Динамизм образа проявляется в хронологичности воспоминаний, эмоциях, обращениях. Героиня свидетельствует о нахождении умерших душ сначала в мире Подземном, потом - Небесном. Какое время затрачивается на это, неизвестно, так как в этих мирах нет временных признаков и процессуальности. В одном из писем из Небесного мира она говорит, что отсюда разрешено отправлять лишь одно письмо в десять лет. Таким образом, правомерно говорить об условном времени, в котором героиня продолжает «вечное» существование.
В настоящем представлено лишь начало романа, являющееся своеобразным прологом. Автор-повествователь сообщает читателю историю создания произведения, уверяет в подлинности описываемых далее событий - он сам получал письма от давно умершей возлюбленной. Настоящее в нарративе романа - незначительный пласт, оно не играет значимой сюжетообразующей роли, справедливо определить его функции как связующего реальное прошлое и условное вневременное.
Триада «прошлое - настоящее - вневременное» свойственно мифологическому мышлению, в структуре романа она, на наш взгляд, способствует воссозданию и сакрализации автором этномифологических констант и библейских мотивов. В традициях мифопоэтики представлены описания Загробного мира. В Небесном мире прослеживается временная статичность, в Подземном - нечеткие признаки смены времени («ночь сменяет день, …темноту ночи тусклый свет»), однако невозможно определить, «когда, во сколько рассветает и темнеет», нет календарной цикличности («В мире живых приходит весна, потом лето, за ним, играя желто-коричневыми красками, осень. В нашем мире ничего не меняется.» [2, с. 8]). Подобные описания позволяют свидетельствовать о манифестации автором мифологического модуса времени, который противопоставляется объективному времени. Таким образом категория времени в романе «Здесь и Там», проецирующая мифологическое и библейское сознание, подводит к размышлениям о характерных для произведения признаках романа-мифа. Данная жанровая форма эпоса не характерна для мордовской литературы, основанной на традициях реализма. Е. Четвергов вводит в национальное слово новое романное мышление, фундаментальным в котором осознается мифопоэтика.
Пространство в художественном тексте, по утверждению М. М. Бахтина, «интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории» [1]. Правомерно говорить о сюжетообразующей функции категории пространства, что прослеживается и в анализируемом нами романе. «Пространственные параметры романа «Здесь и Там», - пишет С. В. Шеянова, - определить достаточно сложно, проблема сводится к оригинальности художественной картины мира, представляющей собой сочетание разных миров, разных сознаний и миропорядков. С одной стороны, пространство сводится к «микросреде» …, с другой, перед читателем - два мира: в письмах Валдая - реальный (Земной мир) и условномистический, непознанный, неизведанный (Загробный мир) - в посланиях Вияны. Пространство романа, таким образом, двупланово: картины реальной действительности чередуются со сценами мистического загробного мира» [5, с. 36].
Описания Загробного (Подземного и Небесного) мира основано, на наш взгляд, на опыте Ветхого завета и мифологическом мотиве о бессмертии души и ее трасплантации в иное состояние. Экспозиции условно-мистического мира вызывают противоречивые эмоции: они поражают воображение информацией о неизведанном и одновременно пугают неестественностью состояний. Вот монтаж описаний Подземного мира: «В Подземном мире мертвых небо черное как земля, ... здесь не бывает дождя и снега. Откуда им взяться, если небо каменное? Место сухое. Не холодно. Здесь растут деревья - редкие, маленькие. Стволы, листья, ветви - темно-красные как кровь. Птиц на деревьях не увидишь, их пения не услышишь.» [2, с. 10]. Описания скудной природы напоминают сцены из утопических и фантастических текстов. Автор, безусловно, эпически широко распоряжается пространством, заявляет об индивидуальном способе восприятия действительности (удаленность от реалистического и обращенность к мифологическому, поэтико-метафорическому), позволяющем делать обобщающие выводы онтологического характера. Однако, на наш взгляд, подобные картины обрисованы пунктирно, нет концентрации, нанизывания деталей, впечатлений, Загробный мир максимально обобщенный, не индивидуализированный локус.
Вертикальная организация пространства в романе вызывает разнообразные антиномии и ассоциации: реальное / мистическое, земное / загробное, противоречивый мир действительности и умиротворенность, безконфликтность загробной жизни. Однако сам автор не создает оппозицию Земное / Загробное. Вияна признается своему адресату, что и в мире мертвых сохраняются социальная иерархия, несправедливость и иные пороки общества. Таким образом, Загробный мир – своеобразное воплощение Земного, что в очередной раз приводит к трактовке романа как реалистического произведения.
В целом, перемежение реального и мифологического пространств придает повествованию размах бесконечности, определяет основные этапы становления характера героев, уровень их духовного развития. Таким образом, хропотоп, как утверждал М. М. Бахтин, является содержательной категорией – определяет образ человека, явившегося объектом художественного исследования.
Пространственно-временные модули в структуре эпистолярного романа Е. Четвергова «Здесь и Там» обуславливают жанровую природу произведения, контаминирующего в своей основе признаки нескольких романных форм – психологического, философского, романа-мифа, романа подведения итогов. В произведении реализуются противоположные модели мира: Земной и Загробный. Земное обрисовано по канонам реализма, автор актуализирует ряд проблем современного общества, представляет реалистическое разрешение конфликтов и коллизий, сцены Загробного мира вызваны мифологическим сознанием и опытом Ветхого завета. В нарративе романа прослеживается трансформация временной атмосферы: реалистическое прошлое и настоящее перемежаются с мифологическим, условным, вневременным. Эмпирическая контаминация и трансформация пространственных и временных категорий привела к хорошему результату – «в контексте мордовской романистики роман «Здесь и Там» становится новаторским образцом в решении центральной проблемы романного жанра – проблемы личности, разрабатываемой как проблема сознания человека, его отношений с миром, структуры его личностной позиции» [3, с. 132]. Данная оценка свидетельствует об уникальности творческого дарования Е. Четвергова, оригинальности его индивидуально-авторской концепции мира и человека.
Список литературы Пространственно-временной континуум романа Е. Четвергова "Тесэ ды тосо" ("Здесь и там")
- Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе//Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. -М.: Худ. лит., 1975. -С. 234-407. EDN: WTJALN
- Нуянь Видяз. Тесэ ды Тосо//Нуянь Видяз Тесэ ды Тосо: сермасо роман, келей евтнема ды евтнемат. -Саранск, 2013. -С. 3-180.
- Шеянова С. В. Роман в письмах Е. Четвергова «Тесэ ды Тосо» («Здесь и Там»): трансформация эпистолярного жанра//Вестник НИИ Гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. -2014. -№ 1 (29). -С. 131-138. EDN: SBWYUJ
- Шеянова С. В. Современный мордовский роман: национальная идентичность и пути ее реализации//Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Филология. Искусствоведение. -2014. -Вып. 87. -С. 130-134. EDN: SJTJPT
- Шеянова С. В. Современный мордовский роман (1980-2000-е гг.): типология, проблематика, поэтика: автореф. дис. …д-ра филол. наук. -Саранск, 2014. -42 с. EDN: TMZHID