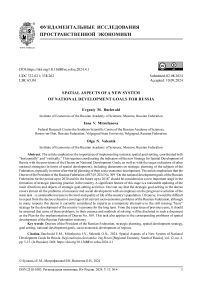Пространственные аспекты новой системы национальных целей развития России
Автор: Бухвальд Е.М., Митрофанова И.В., Валентик О.Н.
Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu
Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики
Статья в выпуске: 4 т.12, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье подчеркивается важность осуществления системного пространственного целеполагания, согласованного как «по горизонтали», так и «по вертикали». Это требует согласования показателей новой Стратегии пространственного развития России с положениями Указа о национальных целях развития, а также с целевыми индикаторами других общегосударственных стратегий (в части пространственного развития), включая документы стратегического планирования субъектов Федерации, особенно в части территориального планирования их социально-экономического развития. Авторами обосновано, что Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» следует рассматривать как новый важный этап становления практики стратегического планирования в стране. Важной особенностью этого этапа является заметное обновление основных направлений и объектов стратегического целеполагания. Можно утверждать, что таким целеполаганием в указе охвачены все узловые проблемы хозяйственного и социального развития с акцентом на последовательное решение главной задачи - устойчивого повышения уровня и качества жизни населения страны. Разумеется, трудно было бы ожидать от указа исчерпывающего освещения всех актуальных социально-экономических проблем Российской Федерации, хотя во многом в настоящее время этот указ рассматривается экспертами как временная альтернатива все еще отсутствующей «базовой» стратегии развития экономики страны на долговременную перспективу. По опыту прежних лет следует предположить, что часть этих проблем по их сути и методам решения будет раскрыта в таком документе, как План реализации Указа № 309. Это относится и к тем положениям указа, которые так или иначе корреспондируют проблемам пространственного развития российской экономики.
Указы президента рф, стратегическое планирование, стратегия пространственного развития, целеполагание, национальные цели развития, социально-экономическое развитие регионов
Короткий адрес: https://sciup.org/149147596
IDR: 149147596 | УДК: 332.021, | DOI: 10.15688/re.volsu.2024.4.1
Текст научной статьи Пространственные аспекты новой системы национальных целей развития России
DOI:
Цитирование. Бухвальд Е. М., Митрофанова И. В., Валентик О. Н., 2024. Пространственные аспекты новой системы национальных целей развития России // Региональная экономика. Юг России. Т. 12, № 4. С. 5–15. DOI:
Постановка проблемы
«Целевые» указы президента России прочно вошли в отечественный опыт государственного управления как один из наиболее значимых источников формирования стратегического курса социально-экономического развития страны на долговременную перспективу. В частности, следует особо отметить такие документы, как: Указ Президента РФ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [Указ Пре- зидента РФ № 204, 2018]; Указ Президента РФ № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» [Указ Президента РФ № 474, 2020]. Наконец, это уже названный выше Указ № 309 1 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» [Указ Президента РФ № 309, 2024]. Указы президента РФ как документы стратегического планирования обладают той особенностью, что реализуют в преимущественной мере только функцию целеполагания, оставляя в стороне вопрос об экономико-правовых, институциональных и иных механизмах реализации заявленных целей [Асхадуллина, 2023].
Это касается и тех целей, которые так или иначе соприкасаются с проблемами пространственного развития российской экономики. При этом следует обратить внимание на то, что данный круг проблем при всей их важности в самом Указе № 309 прямо не затрагивается, хотя это никак не снижает их особой стратегической важности для объективной оценки национальных целей развития и для разработки путей их практического достижения. Это обусловлено тем, что целый ряд положений указа опосредованно связаны с проблемами и задачами пространственного развития экономики страны и, следовательно, также должны учитываться при рассмотрении основных направлений политики реализации национальных целей развития [Кухаренок, 2024].
Кроме того, по сложившейся традиции нашего государственного управления функция практической интерпретации целей указов возлагается не на сами указы, а на иные «сопровождающие» документы, например «План реализации» («Единый план») и пр. Так, по отношению к указу 2018 г. эту функцию выполняло Поручение Правительства РФ от 22 мая 2018 г. № ДМ-П13-2858 «Об обеспечении реализации Указа Президента России “О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года”». Названному выше указу 2020 г. соответствовал одобренный в 2021 г. «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года» [Единый план ... , 2021]. Судя по всему, эта практика документального оформления национального целеполагания будет осуществляться и далее. Здесь следует учесть, что, поскольку Указ № 309 от 2024 г. по национальным целям развития еще не получил развернутой практической интерпретации, план реализации 2021 г. по указу 2020 г. пока можно считать действующим документом и использовать как основу для выработки нового аналогичного документа, который, как предполагается, будет завершен к концу 2024 г. [Березин, 2023].
Экономическое пространство и цели развития
Таким образом, мы полагаем, что целый ряд положений «плана реализации» 2021 г. и сегодня сохраняет свою актуальность и востребо- ванность с точки зрения практического опыта национального целеполагания. Прежде всего, следует отметить, что по содержанию «план реализации» заметно «шире» самого целевого указа, то есть «план реализации» не буквально отражает текст указа, а как бы развивает его идеологию. Мы полагаем такой подход вполне правомерным и целесообразным для практического повторения в новых условиях.
Практически значимо то, что в этом документе были четко обозначены два «среза» пространственного раскрытия национального целеполагания. Первый из них представляет собой систему общефедеральных целевых установок, единообразных для всех субъектов Федерации. Второй касается учета разнообразия пространственной интерпретации национальных целей, во всяком случае тех из них, которые представляют собой не общефедеральный императив, а допускают некоторую дифференциацию с учетом условия отдельных субъектов Федерации. Соответственно, в этом случае целеполагание отражается в стратегиях и планах социально-экономического развития отдельных регионов [Муд-рова, 2024].
В рамках этого «среза» целеполагания к числу целей первой группы можно отнести, например, установку на достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе в здравоохранении, государственном и муниципальном управлении и пр. К числу целей второй группы можно отнести, например, установку на увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП), включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн человек. Это связано с тем, что ввиду большого разнообразия в условиях развития МСП в экономике российских регионов представления об их возможной и достаточной насыщенности субъектами МСП существенно различаются. Значительное число целевых установок по этому направлению социально-экономической политики государства содержится в таком документе, как Стратегия МСП до 2030 г. [Распоряжение Правительства РФ № 1083-р, 2016].
Второй «срез» пространственной интерпретации национального целеполагания связан с формированием условий и стимулов участия субъектов Федерации в достижении всей совокупности национальных целей развития. В документах по национальному целеполаганию неизменно отмечалось, что высокое качество жизни населения, как и достижение иных целей развития, должно быть обеспечено на всей территории страны. Однако проблема не решается лишь «вертикальным» перераспределением бюджетных ресурсов; необходимо последовательное социально-экономическое выравнивание за счет устойчивого развития новых центров экономического роста. Ключевое условие такого развития регионов в среднесрочной перспективе – наращивание собственной доходной базы субъектов Федерации, а также эффективное использование федеральных программ и проектов, равно как (при поддержке со стороны федерального центра) программ и проектов регионального уровня.
С этой целью в плане реализации национальных целей развития по Указу 2020 г. выделялся целевой блок «региональное развитие», а в нем такой важный круг вопросов, в числе которых территориальное развитие и совершенствование межбюджетных отношений, которые, как известно, относятся к числу наиболее значимых рычагов регулирования пространственных пропорций в экономике. Сюда же следует отнести и отдельный акцент на развитие геостратегических территорий Российской Федерации, которые не должны выпадать из единого экономического пространства страны.
Как мы полагаем, данный круг вопросов должен быть обстоятельно представлен и в плане реализации национальных целей развития 2024 года. Например, в Указе № 309 ставится задача снижения к 2036 г. не более чем до двух раз разрыва в бюджетной обеспеченности между 10 наиболее обеспеченными и 10 наименее обеспеченными субъектами Российской Федерации (с учетом оказания финансовой поддержки из федерального бюджета). Однако опыт многих лет показал, что реальный стимул достижения целей развития на местах создается только за счет устойчивого наращивания «собственных» доходов регионов и муниципалитетов (рассчитанных без финансовой поддержки из вышестоящих бюджетов в форме целевых межбюджетных трансфертов). В принципе, с учетом этой задачи было бы вполне целесообразно отразить в «плане реализации» некоторые соображения по корректировкам налогово-бюджетной политики в стране и в целом – обозначить более широкий подход к целям в сфере пространственного развития.
Отсутствие в настоящее время в Указе № 309 прямого указания на те цели национального развития, которые так или иначе соотносят- ся с проблемами пространственного развития, нельзя рассматривать как просчет или даже как случайность. Скорее, здесь просматривается некая закономерность, связанная с отсутствием в нашей экономической науке глубокой системной проработки самого понятия (категории) социально-экономического пространства, в том числе и как важного объекта стратегического планирования, управления и целеполагания [Денисов, 2023].
Свидетельством этому может служить явно неудовлетворительный уровень теоретико-методологической проработки, которым уже изначально был отмечен действующий вариант «Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года» (СПР) [Распоряжение Правительства РФ № 207-р, 2022] . Прежде всего, важно то, что в этом документе отсутствует четкое определение экономического (социальноэкономического) пространства как системного объекта целевого регулятивного воздействия со стороны государства. Между тем именно такой подход был бы особенно значим в нынешних сложных геополитических и социально-экономических условиях [Азоева и др., 2023; Коробкова, Гасанов, Гасанова, 2024]. Пока же документ лишь в общем виде формулирует такое понятие, как «пространственное развитие». Таковое в контексте целеполагания определяется как «совершенствование системы расселения и территориальной организации экономии, в том числе за счет проведения эффективной государственной политики регионального развития» [Иванов, Бухвальд, 2022].
По сути, в СПР целевая функция пространственного стратегирования задана не прямо, а в виде шарады, которую еще нужно разгадать. Так, остается без уточнения то, что именно следует понимать под территориальной организацией экономики и, соответственно, какие конкретно тренды ее изменения можно считать «совершенствованием системы расселения и территориальной организации экономики». Не определено то, что именно является критерием (признаком) «эффективной» государственной политики регионального развития и пр. Соответственно, мы уже не можем однозначно судить о том, является ли нынешняя государственная политика регионального развития «эффективной» и что можно сделать для ее совершенствования.
Примерно в том же духе дается в документе еще одно определение цели пространственного развития Российской Федерации как дости- жения «устойчивого и сбалансированного пространственного развития Российской Федерации, направленного на сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, а также на обеспечение национальной безопасности страны». И опять вместо четкого целеполагания, способного непосредственно «монтироваться» в систему национальных целей развития, мы сталкиваемся с декларацией важных, но все же механически повторяемых общих деклараций (типа «устойчивое сбалансированное развитие»).
Однако стратегическое целеполагание, как и в целом национальные цели развития, – это не набор общих установок и не свод добрых намерений. Такое целеполагание – это всегда конкретные количественные и качественные ориентиры по всем направлениям, которые затрагиваются подобным целеполаганием [Кухаренок, 2024]. Хороший пример в этом отношении дает сам Указ № 309, хотя цели пространственного характера в нем, как было отмечено выше, практически не представлены. Это, как мы полагаем, связано с тем, что содержание действующей СПР настолько бедно и преимущественно неконкретно, что спроецировать какие-либо ее положения в систему национальных целей развития было бы крайне сложно (хотя по логике именно положения национального целеполагания должны были бы проецироваться на СПР, а не наоборот).
Данная ситуация наглядно иллюстрируется тем неадекватным уровнем целеполагания, который фактически отражен в действующей версии СПР. В этом смысле нельзя не констатировать, что цели или, шире, функция целеполагания относится к числу наиболее слабо проработанных сегментов СПР, наиболее отчетливо характеризующих ее, как и многие иные отечественные стратегические разработки, как документы «манифестного характера». Не случайно наши исследователи указывали на то, что недостаточная конкретность и несогласованность целей характерна для всей нашей системы государственного управления [Братченко, 2023]. При этом речь идет не о целях наиболее общего характера, которые, в частности, в СПР представлены достаточно обширно. Имеются в виду цели как количественно определенные целевые индикаторы, позволяющие осуществлять как текущий мониторинг хода выполнения стратегии, так и итоговые результаты ее реализации. Сей- час же ситуация с такими целевыми индикаторами СПР выглядит крайне неудовлетворительно 2, причем корректировки последнего времени изменили ситуацию не в лучшую, а в худшую сторону.
Так, в начальной версии СПР таких целевых индикаторов было 5, а после поправок, внесенных в 2022 г., их вообще осталось только 3, что абсолютно несообразно многоплановому содержанию этого документа стратегического планирования. При этом один из этих трех оставшихся показателей (рост транспортной подвижности населения по отношению к уровню 2017 г.) был существенно переформатирован, так как в своем начальном виде он просто не поддавался точному расчету на базе имеющейся статистической информации. Один из наиболее важных для пространственного развития и национального целеполагания показатель межрегиональной экономической дифференциации изначально имелся в проектных разработках по СПР. Однако при окончательной доработке документа он по не вполне понятным причинам был заменен весьма проблематичным в методологическом плане «Индексом человеческого развития». В итоге в ходе внесения поправок 2022 г. убрали и этот показатель [Иванов, Бухвальд, 2022].
Вместе с тем было бы несправедливо полагать, что в сфере пространственного развития нет позиций, создающих основу четкого стратегического целеполагания. Такие позиции имеются. Многие исследователи отмечали, что проблематике пространственного развития российской экономики могло бы соответствовать до 20 и даже 30 целевых индикаторов. Таковые, с учетом действующей практики статистических наблюдений, в принципе, могли бы получить количественную определенность и, следовательно, быть объектом мониторинга хода реализации и итогов СПР-2019, Указа № 309 и их логических продолжений, а также в той или иной мере интегрироваться в практику среднесрочного национального целеполагания.
Центральное место в этих продолжениях должны занять такие индикаторы пространственного развития российской экономики, как изменение доли макрорегионов (федеральных округов) в совокупном ВРП регионов России и в населении страны; ограничение числа и доли «сверхагломераций и мегаполисов» (в настоящее время 20 крупнейших агломераций формируют уже почти 50 % совокупного ВРП страны); стабилизация соотношения городского и сельского населения; достижение равномерности в пространственном распределении различных ОЭЗ, ТОР и прочих институтов отраслевого и территориального развития [Маевская, 2024].
Сюда также следует отнести такой важный институциональный параметр, как оптимизация числа и структуры муниципальных образований в стране. Конечно, сказанное касается и индикаторов общей экономической дифференциации субъектов Федерации. Как мы полагаем, эти индикаторы вполне должны были бы занять «достойное место» в плане реализации Указа № 309 от 2024 г., даже несмотря на то, что ряд из этих вопросов в самом Указе прямо не затрагивается.
«Целевые» указы и перспективы экономического пространства
В целом, сравнение указов 2020 и 2024 гг. показывает, что определение национальных целей развития в них остается достаточно стабильным. Остается неизменным и акцент на практику лишь косвенного обращения в этих документах к целям, лежащим в сфере пространственного развития российской экономики, если, конечно, не считать утверждения приоритетности модели единого экономического пространства – одной из высших конституционных ценностей для страны [Хакимов, Нурутдинов, Гилязова, 2022; Мужи-ченко, 2023; Правкин, Смирнова, 2019]. Цели 2024 г. вместе с тем отмечены такими новациями, как «устойчивая и динамичная экономика»; «достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» (см. таблицу).
Однако в целом за истекший период перечень национальных целей и их индикаторов претерпел лишь «технические» корректировки. В этой связи проведенный анализ показывает, что такой документ, как «план реализации» 2021 г., и сегодня сохраняет свою актуальность и востребованность с точки зрения практического опыта. Прежде всего, следует отметить, что по содержанию он заметно «шире» самого целевого указа; «план реализации» не буквально отражает текст указа, а как бы развивает его идеологию. Мы полагаем, что такой подход вполне является правомерным и целесообразным для повторения в нынешних условиях.
Кроме того, ошибочно полагать, что соответствующие национальному стратегическому целеполаганию признаки (ориентиры) могут быть сведены исключительно к тем или иным количественным индикаторам. Одним из таких признаков в полной мере может служить также экспертно фиксируемое приближение к наиболее значимым общегосударственным приоритетам, в том числе и в сфере пространственного развития. Таким приоритетом «высшего уровня», как отмечено выше, по-прежнему следует считать достижение и поддержание единого экономического пространства страны. Однако проблема в том, что прямая имплементация задачи достижения и поддержания единого экономического пространства в систему стратегического целеполагания затруднена разнообразием представлений о сути такого пространства и его ключевых признаках.
Единство экономического пространства – многоаспектное, системное понятие, которое не
Таблица
Национальные цели развития Российской Федерации, обозначенные в документах 2020 и 2024 годов
|
Национальные цели развития, обозначенные в Указе № 424 2020 г. |
Национальные цели развития, обозначенные в Указе № 309 2024 г. |
|
|
Примечание. Составлено авторами.
всегда адекватно описывается универсальным определением и, тем более, одним признаком количественного или даже качественного характера [Хабриев, Коломийченко, 2023; Гришина, Чалова, Ахмадеев, 2022]. Именно подобная модель единого социально-экономического пространства, по нашему мнению, уже была представлена в плане реализации национальных целей развития 2020 г., а в настоящее время в полной мере просматривается в Указе № 309. Основа этого подхода – акцент в практике целеполагания на общегосударственные социально-экономические «императивы», основой для реализации которых могут быть только согласованные действия, предпринимаемые на федеральном, региональном и местном уровнях.
Исследования свидетельствуют, что многие теоретико-методологические и чисто практические вопросы единства социально-экономического пространства Российской Федерации, в том числе и как объекта национального целеполагания, еще нуждаются в развитии и конкретизации. Ключевая модель развития экономики страны – «единство в многообразии» – должна быть полностью спроецирована и на практику стратегического целеполагания, особенно в сфере пространственного развития. Содержание Указа № 309, как было отмечено выше, дает, несмотря на отсутствие прямых обращений, достаточные возможности для утверждения единого экономического пространства в качестве стратегической цели национального развития. Об этом свидетельствует, в частности, зафиксированное в нем намерение разработать и утвердить комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 г., необходимой для реализации национальных целей Российской Федерации.
Приоритет единого экономического пространства требует с особой осторожностью оперировать институтом разного рода особых территорий. Например, видится явная необходимость в законодательном порядке [Федеральный закон № 172-ФЗ, 2014; Указ Президента РФ № 633, 2021] закрепить основные признаки, статус и особенности государственной политики в отношении всех видов «геостратегических территорий», федеральных территорий, а также различных по характеру «перспективных центров экономического роста».
По-видимому, количество так или иначе декларированных перспективных «центров» или
«точек роста» в новой СПР по сравнению с действующей версией этого документа [Распоряжение Правительства РФ № 1704-р, 2022] следует сократить. В интересах поддержания единого экономического пространства страны фактически обозначаемые «точки роста» должны не просто перечисляться, а конкретизироваться в разрезе предполагаемых механизмов и ресурсов их практического задействования за счет мер как федерального, так и регионального характера, а также путем использования наиболее сообразных данному случаю форм государственно-частного партнерства.
Есть все основания полагать, что практика национального целеполагания также должна распространиться на уточнение статуса и функций территориальных образований мезоуровня (макрорегионы и федеральные округа), а также в целом – институтов субфедерального уровня публичной власти, в том числе и органов местного самоуправления. Сегодня в отсутствие концепций развития федеративных отношений и системы местного самоуправления в Российской Федерации не исключено, что в новом «плате реализации» целевых установок могут быть обозначены те направления институциональных преобразований, которые в наибольшей степени будут соответствовать эффективному пространственному управлению и стратегированию на всех уровнях публичной власти.
Заключение
Сейчас очевидно, что итоговый эффект выполнения Указа № 309 будет во многом зависеть от того, насколько полно и конкретно его положения будут «развернуты» в соответствующем «плане реализации». Главным в этой «развертке» мы видим соответствие «плана реализации» основным положениям целеполагающего указа и, конечно, четкую адресацию положений Указа и самого «плана реализации» к соответствующим государственным программам и проектам. Такая работа будет очень значима с учетом того, что в период действия Указа и его плана реализации предстоит очередное обновление большого числа государственных программ и проектов, в том числе действующих в сфере пространственного (регионального) развития (большинство из них в настоящее время рассчитаны до 2030 г.).
Сфере пространственного целеполагания в настоящее время в наибольшей мере соответ- ствует государственная программа «Сбалансированное региональное развитие». Однако на деле целостной ориентации на проблемы регионального развития и пространственного регулирования экономики страны, сообразно ключевым положениям Указа № 309, данный программный блок в настоящее время не имеет. Программы и проекты по данному разделу описывают в основном социально-экономическое развитие отдельных регионов и макрорегионов страны. Лишь в одном случае программа касается задач более общего характера (развитие федеративных отношений), да и то в пределах вопросов финансовобюджетного характера, которые в действующей СПР вообще никак не рассматриваются.
Таким образом, можно говорить о важности осуществления системного пространственного целеполагания, согласованного как «по горизонтали», так и «по вертикали». Это означает необходимость согласования показателей новой СПР с положениями Указа о национальных целях развития, с целевыми индикаторами других общегосударственных стратегий (в части пространственного развития), а также с документами стратегического планирования субъектов Федерации (также в части их пространственного развития и территориального планирования). Сегодня такая согласованность пока просматривается с трудом [Братченко, 2023].
Механизмы достижения этих целей должны быть существенно скорректированы на основе принципа их последовательной федерализации. Ключевые задачи в сфере пространственного развития, поставленные в рамках национального целеполагания, должны быть четко распределены на задачи: а) решаемые на федеральном уровне и за счет ресурсов федерального центра; б) решаемые на региональном уровне и за счет ресурсов федерального центра, субъектов Федерации и частично за счет средств местного самоуправления; в) решаемые путем совместных действий федерального центра и регионов на основе практики софинансирования; г) решаемые за счет использования механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства.
Список литературы Пространственные аспекты новой системы национальных целей развития России
- Азоева О. В., Зоидов К. Х., Казанцева Н. В., Мацуляк И. Д. и др., 2023. Сбалансированное развитие единого экономического пространства Российской Федерации в контексте новых геополитических вызовов / отв. ред. А. А. Урунов. М.: Гос. ун-т управления. 277 с.
- Асхадуллина В. Э., 2023. Национальные цели как инструмент развития государства и общества Российской Федерации // Экономика и предпринимательство. Т. 17, № 3 (52). С. 231–233.
- Березин В. И., 2023. Стратегия пространственного развития России до 2025 года в контексте достижения целей устойчивого развития // Динамика и контроль в контексте устойчивого развития. М.: АНО «Институт динамики». С. 11–16.
- Братченко С. А., 2023. Несогласованность целей в государственном управлении // Вестник Института экономики Российской академии наук. № 6. C. 78–108. DOI: 10.52180/2073-6487_2023_6_78_108
- Гришина О. А., Чалова А. Ю., Ахмадеев Р. Г., 2022. Федеральный бюджет и бюджетно-налоговая политика России: оценка возможностей для достижения целей национального развития // Финансы и кредит. Т. 28, № 2 (818). С. 269–294. DOI: 10.24891/fc.28.2.269
- Денисов Д. Д., 2023. Подходы к пониманию единого экономического пространства // Наука сквозь призму времени. № 4 (73). С. 46–49.
- Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, 2021. URL: https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/edinyy_plan _po_dostizh eniyu_nacionalnyh_celey_razvitiya_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2024_goda_i_na_planovyy_period_do_2030_goda.html.
- Иванов О. Б., Бухвальд Е. М., 2022. Стратегия пространственного развития: новые подвижки и старые проблемы // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. № 5. С. 7–26. DOI: 10.24412/2071-6435-2022-5-7-26
- Коробкова О. К., Гасанов Э. А., Гасанова Н. В., 2024. Устойчивое развитие как один из приоритетов национальных целей безопасности России // Вестник Алтайской Академии экономики и права. № 4-1. С. 76–81. DOI: 10.17513/vaael.3333
- Кухаренок Б. А., 2024. Цели национального развития России // Социально-экономическое развитие России: проблемы, тенденции, перспективы. Курск: Унив. кн. С. 229–231.
- Маевская Л. И., 2024. Территории опережающего развития как институт, регулирующий функционирование единого экономического пространства Российской Федерации // Бизнес. Образование. Право. № 2 (67). С. 75–81.
- Мудрова С. В., 2024. Сценарные прогнозы изменения социально-экономического развития субъектов РФ с учетом трансформации единого экономического пространства // Russian Journal of management. Т. 12, № 1. С. 239–255. DOI: 10.29039/2409-6024-2024-12-1-239-255
- Мужиченко А. В., 2023. Понятие и сущность единства экономического пространства Российской Федерации как конституционной ценности // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. № 1 (93). С. 89–93.
- Правкин С. А., Смирнова В. В., 2019. Конституционно-правовые аспекты регулирования и защиты единого экономического пространства и конкуренции // Вестник Академии права и управления. № 1 (54). С. 33–38.
- Распоряжение Правительства РФ от 2 июня 2016 г. № 1083-р «О Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 г. и плане мероприятий (“дорожной карте”) по ее реализации», 2016. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71318202/
- Распоряжение Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» (в ред. от 25.06.2022 г.), 2022. URL: https://www. http://government.ru/docs/35733/
- Распоряжение Правительства РФ от 25 июня 2022 г. № 1704-р «Об утверждении изменений, которые вносятся в Стратегию пространственного развития Российской Федерации до 2025 года», 2022. URL: http://government.ru/docs/all/141807/
- Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 2018. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
- Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 2020. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726
- Указ Президента РФ от 8 ноября 2021 г. № 633 «Основы государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации», 2021. URL: http://prezident.org/articles/ukaz-prezidenta-rf-633-ot-8-nojabrja-2021-goda-08-11-2021.html
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», 2024. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/408892634
- Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 2014. URL: http://base.garant.ru/70684666/
- Хабриев Р. У., Коломийченко М. Е., 2023. Особенности мониторинга достижения национальных целей развития Российской Федерации. Орел: Ремедиум. С. 196–199.
- Хакимов Р. М., Нурутдинов А. А., Гилязова А. И., 2022. Социально-экономические основания реализации национальных целей развития России // Евразийский юридический журнал. № 4. С. 485–486. DOI: 10.46320/2073-4506-2022-4-167-485-486