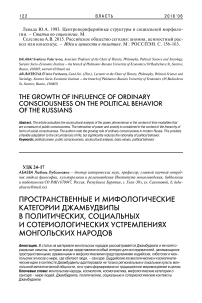Пространственные и мифологические категории Джамбудвипы в политических, социальных и сотериологических устремлениях монгольских народов
Автор: Абаева Любовь Лубсановна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 6, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье на материале монгольских народов рассматривается Джамбудвипа и ее категориальные смыслы, которые всегда представляли особый интерес для исследователей, занимающихся пространственными, временными и мифологическими представлениями индийских, тибетских и монгольских этносов о мире, где обитают люди, - сансаре. Буддийские космологические и космогенетические идеи в контексте Джамбудвипы адаптировали не только региональные и локальные культы монгольской метаэтнической общности, но и трансформировали их традиционное мировоззрение в целом.
Монгольские народы, космология, космогенетика, мифологические категории о сансаре - мире людей, джамбудвипа, политические, социальные и сотериологические контексты джамбудвипы
Короткий адрес: https://sciup.org/170169066
IDR: 170169066 | УДК: 24-17 | DOI: 10.31171/vlast.v26i6.5900
Текст научной статьи Пространственные и мифологические категории Джамбудвипы в политических, социальных и сотериологических устремлениях монгольских народов
К осмологические стереотипы, фиксирующиеся на территории Центральной
Азии, – это два больших устойчиво связанных между собой этнокультурных анклава: общетибетский и общемонгольский, настолько тесно взаимодействующих и взаимосвязанных между собой, что возникает общая центральноазиатская метакультурная конфессиональная традиция, создавшая специфическую и уникальную культуру. Последняя фиксирует особый архетип как устойчивую форму восприятия, адаптации и трансляции своих архетипов и ценностей. Социальная идентификация этих общностей, населяющих регион Центральной Азии (тибетская этническая общность с двумя различными типами хозяйственно-культурного типа – оседлой земледельческой культурой в низовьях Тибета и кочевой динамичной культурой в горных его районах; монгольская метаэтническая общность с кочевым динамичным устройством жизнеобеспечения), представляла собой неразрывный пространственно-временной континуум, обеспеченный в синхронном и диахронном срезах. Субъектами социальной идентификации и компетентности этносов Центральной Азии в контексте их исторического и мифологического пространства могут выступать традиционные этнические территории с ландшафтными и климатическими особенностями; традиционная хозяйственно-культурная организация; язык как информационная, коммуникативная и культурно-текстовая система; сама этническая культура, созданная конкретным этническим сообществом и транслирующая себя в конкретном пространстве и времени; конфессиональная историческая и мифологическая память, в перспективе переходящая в рамки социальной идентификации; этническая и социальная ментальность, исходящая из глубин этнической психологии и, соответственно, мифологической культуры и космологических представлений. Параметры объекта социальной идентификации этносов, населяющих Центральную Азию, чрезвычайно широки и разнообразны. Здесь можно отметить традиционные этнические космогонические и космогенетические мифы этносов Центральной Азии; их картину мира; религиозные верования, культы, ритуалы и обычаи; традиции в их материальном (производственном) и духовном (творческом) исполнении; межэтнические коммуникации, взаимосвязи и кросс-культурное влияние; письменные традиции; семантические и семиотические характеристики феноменов этнической культуры, их адекватную трансляцию на сопредельные территории; экологическую культуру.
Джамбудвипа и ее категориальные смыслы всегда представляли особый интерес для исследователей, занимающихся пространственными, временными и мифологическими представлениями индийских, тибетских и монгольских этносов о мире, где обитают люди. Тибетские космологические теории, кстати, во многом заимствованные из многосложной и довольно синкретичной индийской буддийской культуры, представляли космос как Абсолют, не имеющий ни начала, ни конца в пространстве и времени. Согласно древнеиндийской космологии, окружающий мир представлял собой плоский диск, в центре которого находилась мировая гора Меру, окруженная океанами, в которых расположены четыре континента. «В центре мира стоит огромная гора Меру (Сумеру), вокруг которой вращаются солнце, луна и звезды. Меру окружают концентрически семь горных хребтов (они отделены друг от друга кольцевидными озерами). За ними расположены четыре континента: на востоке – Пурвавидеха, на юге – Джамбудвипа, на западе – Апарагодана, на севере – Уттаракуру»1. Каждый из континентов граничит с двумя субконтинентами, что составляет всего восемь субконтинентов. Гора Меру как центральная ось по вертикали, сверху и снизу имеет в своем расположении шесть территорий (царств), располагающих разными типами существования разумных существ. Под горой Меру и далее по оси вниз – царство прета-лока (согласно буддийской теории реинкарнации, голодных духов – людей, много грешивших в прошлых жизнях); далее следует многоуровневое царство нарака-лока (место страданий; с буддийской точки зрения в какой-то степени адекватно христианскому аду) и царство животных и людей [Рей 2004: 28]. Эти три мира считаются низшими царствами (территориями), поскольку располагаются вниз по оси горы Меру, тогда как по верхней оси располагаются три царства различного ранга и иерархии божеств, которые в данной статье не рассматриваются. Таким образом, к категории Джамбудвипы в космологических представлениях буддистов Центральной Азии, в т.ч. и монгольских народов, относятся три мира – царство прета-лока, царство нарака-лока и царство животных и людей. По мнению известного индолога В.П. Андросова, Джамбудвипа (jambu-dvipa) – это островной материк с деревом Джамбу, «один из четырех материков в мировом океане, которые, согласно буддийской космологии, располагаются по четырем сторонам-граням центральной горы мироздания Меру. Джамбу – дерево с розовыми яблоками. Этот материк населен людьми, и на нем проповедовал Шакьямуни – Будда настоящего мирового периода (кальпа). В широком смысле Джамбудвипа – земной шар, но в узком – это лишь знакомый древним индийцам Индостан. Именно его схематические очертания напоминают изображения материка (перевернутая трапеция) на буддийских рисунках»1.
Такова структура локуса Вселенной в общих буддийских идеях и практиках. Продолжительность жизни миров исчисляется великой кальпой, которая, в свою очередь, разделена на четыре малых кальпы в соответствии с четырьмя континентами. Особый интерес, на наш взгляд, представляет сочинение на монгольском языке (сумбум) Мэргэн-гэгэна Лубсандамбижалцана (1717–1766), ученика известного проповедника буддизма среди монголов Нейчжи-тойна и третьей реинкарнации Аригун Мэргэн даянчи Динвы. О существовании данного памятника «Алтан Тобчи» Мэргэн-гэгэна стало известно в 1883 г. благодаря А.М. Позднееву. Однако фундаментальное исследование летописи «Алтан тобчи» Мэргэн-гэгэна с предисловием, переводом, обширными комментариями и приложением полной фотокопии рукописи на старописьменном монгольском языке было сделано П.Б. Балданжаповым [Балданжапов 1970: 7-255]. Согласно Мэрген-гэгэну и его сумбуму, «если в космическом пространстве мифические области, образованные от материальных первоэлементов, расположены по вертикали, то на нижнем слое пространства материальные объекты лежат по горизонтали, то есть один подле другого» [Балданжапов 1970: 71]. По утверждению автора «Алтан тобчи», процесс образования мира происходит не только в пространстве, но и во времени. В средневековом Тибете для измерения времени была разработана система, за единицу которой принят ksan – примерно 120 часть секунды. Девяносто ksan составляют один миг (tur). В космологической части «Алтан Тобчи» она обозначается только понятиями «раньше» (urida) и «позже» (qoyina), выражающими в конечном счете последовательность процесса образования Вселенной, но не говорится о периодической повторяемости, точнее, о кругооборотах мира. Как известно, в буддийской космологии материальный и духовный миры начинаются с пустоты и в своем развитии проходят четыре периода кальпы, а затем опять превращаются в состояние пустоты. Введение в космологию представления «о кругооборотах мира» пре- вратило ее в служанку богословия. Космология стала истолковывать и обосновывать «иллюзорность», «нереальность» всего сущего. Весьма любопытно, что эта часть буддийского учения оказалась в «Алтан Тобчи» Мэргэн-гэгэна сокращенной и оригинальной. Поэтому в названной летописи процесс образования Вселенной объективно протекает от прошлого к настоящему и от него – к будущему. Если же рассматривать «Алтан Тобчи» изолированно от буддийской космологии вообще, то время в этой летописи выступает как категория не только необратимая, но и безграничная и бесконечная [Балданжапов 1970: 73].
Уникальность «Алтан Тобчи» Мэрген-гэгэна с точки зрения тематики нашей статьи заключается в том, что, интерпретируя, в частности, космологическую теорию сочинения Васубандху «Абидармакоша», автор не дает объяснения происхождения небесных миров, а ограничивается лишь повествованием о происхождении земного мира. По «Абидармакоше», первоэлементы, как и собственно Земля, появились вследствие влияния «живых существ» ( amitan-nuyud-un ullen-un erkeber ). Этим «Алтан Тобчи» отличается от многих сочинений на тибетском и монгольском языках, содержащих повествование о системе миров вселенной [Балданжапов 1970: 68]. Развивая теорию возникновения мира, он не дает описания верхних мифических областей по вертикальной оси горы Меру, именуемых «шестью областями чувственного ощущения» ( amarmay-un jiryuyan ayimay ), а ограничивается лишь констатацией существования в этих областях элемента воздуха. Характерным для его сочинения является также и то, что три верхних царства вертикальной оси горы Меру как обиталища различного ранга божеств (будд, бодхисатв, идамов, дхармапал, дакиней и др.) интерпретируются как естественно-материалистические аспекты и основы возникновения первоэлементов. Летопись «Алтан тобчи» Мэргэн-гэгэна свидетельствует: «Из пара [выделяющегося] при соединении четырех сфер – воздуха, огня, воды и земли [ dorben mandal ] – образовалось скопление облаков в светлом космосе. От него пошли дожди, и тогда четыре сферы [элемента] смешались и растворились вместе. Когда же вода отстоялась, появилось внешнее море. В результате движения ветра заволновалась морская вода. От ее всплеска стали скапливаться соки – драгоценности элементов, из которых образовалась гора Сумеру [гора Меру в доктринальном буддийском и популярном восприятии монгольских народов] [Миндол-Номун-хан 2016: 111-112]. Согласно Мэргэн-гэгэну и Миндол-Номун-хану, гора Сумеру окружена семью горами и семью океанами, четырьмя большими и восемью малыми частями света, а наша земля – Джамбудвипа – составляет только одну из четырех больших частей света и расположена в восточной части горы Сумеру. Существуют разночтения в определении местонахождения сакральных территорий, в т.ч. и Джамбудвипы, т.к. пространственная космогоническая ориентация древнеиндийской, тибетской и монгольской традиций отличаются друг от друга.
Необходимо отметить, что легенды и предания монгольских народов о картине мира, их окружающего, наряду с древнеиндийскими и тибетскими представлениями, объединяются наличием в них элементов чудесного, иногда практически фантастического, но воспринимаемого ими как достоверное, происходящее на границе исторического и мифологического времени. Анализ мифологических представлений монгольских народов о структурном ядре Джамбудвипы позволяет поставить вопрос о наличии в их среде уникальной иерархии мотиваций и аксиологических ценностей, обусловленных мифологическими и религиозными представлениями, возникшими в период адаптации буддизма. Семантический слой их политической, социальной и этнокультурной специфики проглядывается прежде всего в восприятии ассоциаций небесного происхождения политической власти больших и малых ханов. Исторически так сложилось, что взаимоотношения между светскими и духовными представителями монголосферы регулировались кодексом, который именовался «двумя законами», или «двумя принципами власти». Его основная идея кодифицировала преимущественные духовные позиции буддийского лидера по отношению к светским правителям, оставляя за светским правителем государственные политические функции. Эта доктрина сложилась еще при хане Хубилае (1260– 1294). Религиозный духовный лидер и светский правитель тибетской и монгольской этнических общностей довольно органично разделяли сферы своей деятельности. «Провозглашение буддизма государственной религией монгольского государства вызвало большие изменения в идеологии кочевников. Хотя центр Монгольской империи располагался в Китае, официальная идеология была заимствована у древней индийской религии», – пишет монгольский академик Ш. Бира. Так, монгольский хан Хубилай был признан новыми адептами буддизма перерожденцем Ашоки (индийский император династии Маурьев, правивший в 268–231 до н.э., покровитель буддизма – чакравартин) [Бира 2013: 81]. «В тогдашней Монголии учение сильной царской власти имело с самого начала не абстрактно-философское, а сугубо практическое значение. С XVI века под влиянием этой концепции сложилась традиция считать родоначальниками монгольских ханов царей древней Индии и Тибета. Поэтому в период цин-ского владычества представление монголов о себе как о части индо-тибетской культурной общности укрепляло представление об особенности Монголии от Китая в культурном и политическом развитии», – пишет Е.И. Лиштованный [Лиштованный 2007: 17].
В учении Будды и последующих комментариях к ним фиксируется множество сотериологических обоснований существования прошлой и будущей жизни индивида, которые сводятся к четырем логическим доводам: «каждому объекту и явлению предшествует объект и явление того же типа; каждому объекту и явлению предшествует субстанциональная причина; в прошлом ум уже обладал знанием об объектах и явлениях; в прошлом у ума уже был опыт взаимодействия с объектами и явлениями» [Калсанг багша 2012: 5]. Характерно, что идеи традиционной и буддийской реинкарнации в монголосфере имели в какой-то степени не только индивидуальный, но и коллективный характер (коллективная карма, закон причинности и следствия), но в сотериологических устремлениях эти аспекты были в основном чисто индивидуальными [Миндол-Номун-хан 2016: 277-290; Абаева 2016].
Следует отметить, что идеи и теоретические аспекты Джамбудвипы могут одновременно выступать комплексно и векторно, поскольку исторически, генетически и территориально она воспринималась буддийскими адептами Центральной Азии как единый и целостный конфессиональный феномен. В пределах сан-сарического бытия существа верхних миров для представителей монгольских народов в контексте буддийской практики в основном не имеют особой повседневной важности, однако в контексте довольно трудного кочевого образа жизни они являлись объектом почитания и жертвоприношений. В мире сансары «обитали» некоторые индийские божества (Брахма, Индра), божества воздуха, божества гор, божества на земле, божества под землей, божества человеческого жилья, индивидуальные божества человека, а также «злобные» божества [Рей 2004: 47]. Поэтому такие фундаментальные стихии мироздания, как вода, земля, огонь, исторически входившие в традиционную систему религиозной культуры монгольских народов, с восприятием буддийской идеи о Джамбудвипе приобретают особый уникальный и сакральный смысл. Кроме того, космогонические идеи Джамбудвипы присутствуют практически во всех современных религиозных культах, ритуалах и жертвоприношениях монгольских народов: в культе гор, почитании Вечного синего неба, почитании матери-земли, почитании деревьев, сакрализации водных резервуаров и т.д. [Абаева 1992: 60-111].
Буддийские космологические и космогенетические идеи в контексте Джамбудвипы не только адаптировали региональные и локальные культы монгольской метаэтнической общности, но и трансформировали ее традиционное мировоззрение в целом. При этом они обусловили функционирование чисто монгольских природных специфических обрядов и культов, которые во временном континууме Великой степи воспринимаются уже как непосредственно монгольские этнокультурные и этноконфессиональные феномены, представляющие оригинальный системный комплекс их религиозной культуры.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИМБТ СО РАН по проекту XII.191.1.3. «Комплексное исследование религиозно-философских, историко-культурных, социальнополитических аспектов буддизма в традиционных и современных контекстах России и стран Центральной и Восточной Азии». Номер госрегистрации № АААА-А17-117021310263-7.
Список литературы Пространственные и мифологические категории Джамбудвипы в политических, социальных и сотериологических устремлениях монгольских народов
- Абаева Л.Л. 1992. Культ гор и буддизм в Бурятии. М.: Наука. 142 с
- Абаева Л.Л. 2016. Особенности интерпретации феномена «сунс» в религиозных традициях монгольских народов в контексте буддийской цивилизации. -Власть. № 4. С. 149-154
- Балданжапов П.Б. 1970. «Алтан Тобчи» -монгольская летопись XIII века. Улан-Удэ. 400 с
- Бира Ш. 2013. Актуальные вопросы исследования истории Монгольского государства. Улан-Удэ: Изд-во БГУ. 99 с
- Калсанг багша. 2012. Тибетские ламы-перерожденцы. История и современность. Улан-Удэ: Республиканская типография. 95 с
- Лиштованный Е.И. 2007. От Великой Империи до демократии: очерки политической истории Монголии. Иркутск: Изд-во ИГУ. 198 с
- Рей Р. 2004. Нерушимые истины. М.: АСТ-Астрель. 511 с
- Номун хан IV Данзанпэрэнлэй. 2016. Омнох замбутивийн байцыг дэлгэр номлосон тодорхой толь. Улаанбаатар. 305 х