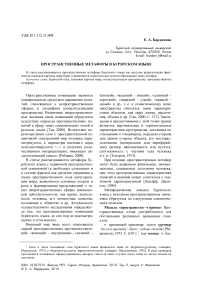Пространственные метафоры в бурятском языке
Автор: Бардамова Екатерина Александровна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются пространственные метафоры бурятского языка как средство репрезентации фрагментов языковой картины мира бурят и выявляются семантические модели образования таких метафор.
Бурятский язык, языковая картина мира, концептуализация пространства, пространственные метафоры
Короткий адрес: https://sciup.org/14737232
IDR: 14737232 | УДК: 811.512.31:008
Текст научной статьи Пространственные метафоры в бурятском языке
Пространственные номинации являются универсальным средством выражения понятий, относящихся к непространственным сферам, и специфики концептуализации пространства. Вторичные непространственные значения таких номинаций образуются вследствие перехода пространственных понятий в сферу иных семантических полей в русском языке [Гак, 2000] . Вследствие переосмысления слов с пространственной семантикой «внутренний мир человека параметризуется, а параметры внешнего мира психологизируются <...> и получают количественную интерпретацию, имеющую аксиологический смысл» [Рябцева, 2000].
В статье рассматриваются метафоры бурятского языка с первичной пространственной семантикой (в свободных сочетаниях и в составе фразем) как средства отражения в языке пространственного кода категоризации мира, выявляются основные модели и роль в формировании представлений о таких непространственных сферах внеязыко-вой действительности, как время, деятельность человека, его личностные качества, положение в обществе и др. Актуальность осуществленного исследования определяется тем, что пространственные номинации бурятского языка до сих пор не рассматривались в этом аспекте.
Внешний мир чаще всего описывается серией пространственных противопоставлений: «внешний – внутренний», «далекий – близкий», «высокий – низкий», «длинный – короткий», «широкий – узкий», «правый – левый» и др., т. е. к семантическому полю пространства относятся такие характеристики объектов, как мера длины, расстояния, объема и др. [Гак, 2000. С. 127]. Значимыми и продуктивными с этой точки зрения являются вертикальные и горизонтальные характеристики пространства, дистанция по отношению к говорящему, передняя сторона или задняя сторона объекта, его месторасположение (центральное или периферийное), размер, наполненность или пустота, соотносимость с частями тела человека и т. п. [Топоров, 1973].
При помощи пространственных метафор могут быть выражены физические, эмоциональные, социальные состояния человека, при этом пространственная характеристика понятий и явлений может сочетаться с оценочной характеристикой [Лакофф, Джонсон, 1990].
Метафорическая лексика бурятского языка с исходным пространственным значением образуется по следующим семантическим моделям.
Модель «пространство → время» . Пространственные слова употребляются для обозначения различных временных смыслов:
-
• временной ориентир: мyнөө хyрэтэр ‘до сего времени’ (букв.: сейчас доходя) [Черемисов, 1973. С. 629 ] 1 , hая нааша ‘в бли-
- жайшее время’ (букв.: недавно сюда) [Там же. С. 316 ];
-
• временная последовательность: уни холын ‘стародавний’ (букв.: давно, далекий) [Там же. С. 582 ] , эртэ урда ‘в древности’ (букв.: рано впереди) [Там же. С. 474] , даба-ан дээрэ ‘только что’ (букв.: на перевале) [Там же. С. 219 ] , халуу мyрөөрнь ‘тотчас’ (букв.: по горячим следам) [Там же. С. 308]; данай хойто ‘после войны’ (букв.: войны позади) [Там же. С. 578], yдэр эдеэнэй урду-ур ‘перед обедом’ (букв.: обеда впереди) [Там же. С. 475];
-
• временные интервалы определенной и неопределенной длительности: саг зуура ‘временно, на неопределенное время’ (букв.: время, промежуток) [Там же. С. 264], нэгэ забhар олохо ‘улучить момент’ (букв.: один промежуток найти) [Там же. С. 243] .
Модель «путь как часть пространства и символ передвижения в пространстве ^ жизнь, судьба человека и его поведение» :
-
• Жизнь, судьба человека. Модель «путь ^ жизнь, судьба» реализуют метафоры, отражающие сложные философские понятия жизненного пути, его предназначения: бурханай зарлиг харгы ‘богом указанный путь’ (букв.: по велению бога дорога) [Цыденжапов, 1992. С. 26] , арга зам ‘пути решения проблем, возможность’ (букв.: способ, средство; путь) [Черемисов, 1973. С. 248] , оршолонто наhан ‘бренная жизнь’ (букв.: пребывающий в возрасте) [Там же. С. 364], харгылуулха ‘наставлять на истинный путь, побуждать изменить поведение в хорошую сторону’ (букв.: заставлять идти по дороге) [Там же. С. 554] и др. Пространство дороги и движение по ней ассоциируются с судьбой человека, переосмысливаются как поиск счастья, стабильности и средство их достижения: нэрэ-дэ хyрэхэ ‘осуществить свое предназначение’ (букв: достичь имени) [Там же. С. 629] , тушаалда ябаха ‘занимать какой-либо пост’ (букв. в выборах идти) [Там же. С. 793]. Благими делами, соблюдая каноны праведной жизни, путем обретения благословения бурханов и предков человек может обрести удачу в жизни – зам нээхэ (букв.: открывать дорогу) [Там же. С. 342]; открыть дорогу, т. е. получить возможность успешной реализации задуманного, устраняя препятствия – харгы гаргаха (букв. выводить дорогу) [Там же. С. 554]; выйти на
свою дорогу, т. е. избрать жизненный путь или направление жизненного пути – харгы-да орохо (букв. войти в дорогу) [Там же].
-
• Поведение, образ жизни человека: зyггyй ‘беспутный’ (букв.: без направления) [Там же. С. 267] , замаа табиха ‘проказничать’ (букв.: дорогу отпустить) [Там же. С. 248] и др.
Модель «пространственный параметр ^ социальная характеристика» :
-
• Политические отношения: баруунай хэлбэрил ‘правый уклон’ (букв. правый уклон) [Там же. С. 90] , гадаадын дайсан ‘внешний враг’ (букв. внешний враг) [Там же. С. 138 ];
-
• Родственные связи, дружеские или враждебные отношения: ойрхон хyн ‘близкий родственник’ (букв.: находящийся рядом человек) [Там же. С. 352] , намда холо бэшэ ‘он мне не посторонний’ (букв.: от меня недалеко) [Там же. С. 580] , дyтэ тyрэл ‘близкий родственник’ [Там же. С. 210], нэгэ уг замтай ‘с одной родословной’ (букв.: с одним, происхождением, путем) [Там же. С. 248] и др. С понятием близкий связаны не только представления о кровном родстве, но и о дружбе, духовной близости между людьми: ганзага ниилyyлхэ ‘дружить’ (букв.: торока соединить) [Там же. С. 327] , дотор hанаха ‘принимать за своего’ (букв.: подумать, что внутренний) [Цыденжа-пов, 1992. С. 73]. К рассматриваемым сочетаниям примыкает и выражение, имеющее противоположный смысл дyтэ yзэхэгyй ‘относиться неприязненно’ (букв.: вблизи не видеть) [Черемисов, 1973. С. 42], аналогичное русскому просторечному выражению с подобным значением: в упор не видеть .
Модель «пространственный параметр ^ личностная характеристика» :
-
• Оппозиция ‘далеко’ - ‘близко’ . Для характеристики интеллектуальной сферы человека бурятский язык использует противопоставление холо ‘далеко’ – наана ‘близко’ . Лексемы данной оппозиции выступают классификаторами выделенности / ординарности личности, формируют социальные идеи: холо бодолтой ‘дальновидный’ (букв.: с далекой мыслью) [Там же. С. 580], но на-ана хyн ‘недалекий человек’ (букв.: близко, человек) [Там же. С. 316] . Концептуальная метафора, лежащая в основе этих выражений, отражает представление о том, что личность, способная выйти за пределы «своего» пространства (физического и ин-
- теллектуального), обжитого и знакомого, понимается как неординарная, выделяющаяся среди других силой своего характера, адаптивностью к новым условиям, способностью к преодолению негативных жизненных обстоятельств. И напротив, личность, ограниченная пределами этого пространства, не отличается развитым интеллектом.
В рамках данной модели также развивают переносные значения дейктические слова наагуур ‘близко’ – саагуур ‘далеко’, на-аша ‘сюда, в эту сторону’ – сааша ‘дальше, в ту сторону’ , выступающие классификаторами оценки внутреннего мира человека.
В языковой картине мира бурят пространственный параметр наагуур ‘близко’ ассоциируется с неискренностью, лицемерием, характеризующими человека, чьи слова и поступки не соответствуют истинным намерениям: наагуур гайхасагаалга ‘ложная (или показная) скромность’ [Там же. С. 315] , наагуур хэлэхэ ‘говорить, скрывая подлинные мысли’ (букв.: близко говорить) [Там же] , наагуураа ‘показной, рассчитанный на внешний эффект’ [Там же]. В языковом сознании бурят это свойство личности соотносится с равнодушным, «поверхностным» отношением к окружающим людям, отсутствием желания глубоко проникнуться чужими печалями и радостями – отсюда и развитие переноса пространственного значения в область личностных характеристик.
Саагуур ‘далеко’, напротив, эксплицирует положительную оценку свойств человека – глубины мысли, обоснованности, продуманности действий, дальновидности: саагуур бодохо ‘глубоко осмыслить’ (букв.: далеко подумать) [Там же. С. 377] , саагуур бодолтой ‘продуманный’ (букв.: с далекими мыслями) [Там же], саагуур удхатай ‘глубокомысленный’ (букв.: с далеким смыслом) [Там же] , саагуур хэлэхэ ‘говорить обоснованно’ (букв.: далеко говорить) [Там же].
-
• Оппозиция ‘сюда’ – ‘туда’ . Наречия бурятского языка нааша ‘сюда, в эту сторону’ – сааша ‘дальше, в ту сторону’ реализуют древнейшее представление о семантизированном «своем» и «чужом» пространстве. Все, что находится в личном, «своем» пространстве говорящего или направлено к нему, закреплено в языке как положительное, например: наашань хараха ‘быть удаче’ (букв.: сюда смотреть) [Там же. С. 316] . То, что связано с сааша ‘даль-
- ше, в ту сторону’, относится к сфере «чужого», враждебного, и потому отрицательно оцениваемого: сааша hанаатай ‘вероломный’ (букв.: в другую сторону с мыслями) [Там же. С. 379].
-
• Оппозиция ‘верх’ – ‘низ’ . В бурятском языке модели «пространственный параметр → социальная характеристика» и «пространственный параметр → личностная характеристика» представлены также оппозицией өөдэ, дээдэ ‘верх’ – доодо, доро, уруугаа ‘низ’. Координата верх традиционно используется для положительной оценки разного рода явлений и объектов [Лакофф, Джонсон, 1990]. В бурятском языке она используется при социальной и личностной характеристиках для обозначения благополучия, достатка, успеха, власти, хорошего здоровья: өөдэ нара хараха ‘удача улыбнулась’ (букв.: наверху увидеть солнце) [Черемисов, 1973. С. 367] , өөдөө болохо ‘встать на ноги’ (букв.: вверх встать) [Там же], өөдэлхэ тэнхэхэ ‘набираться сил, здоровья’ (букв.: вверх подниматься) [Там же] , дээдэ гарай хyн ‘человек высокой квалификации’ (букв.: верхней руки человек) [Там же. С. 219] , дээдэ тyрэлтэн ‘знать, знатный человек’ (букв.: высокой родословной) [Там же]. Для болезни, грусти, неудачи, бедности, унижения и т. п. язык выбирает ориентир низ : доодо шадалтай ‘бедняк’ (букв.: с низкой силой) [Там же. С. 195] , до-ройтохо ‘здоровью ухудшиться’ (букв.: становиться вниз) ; доро унаха ‘унижаться’ (букв.: упасть вниз) [Там же. С. 196] , доодо тyрэлтэй ‘чернь’ (букв.: с низкой родословной) [Там же. С. 195], уруугаа орохо ‘прийти в упадок’ (букв.: вниз, входить) [Там же. С. 477] и др.
В бурятском языке представление о пространственном положении внизу соотносится с чем-либо скрытым, совершаемым украдкой, например: доогуур хэлэхэ ‘говорить по секрету’ (букв.: говорить внизу) [Там же. С. 195] , доогуур hурагшалха ‘расспрашивать исподтишка’ (букв.: понизу осведомляться) , доогуур худалдаха ‘торговать из-под полы’ (букв.: понизу торговать) и др.
-
• Оппозиция ‘передний’ – ‘задний’ . В «отпространственных» характеристиках социума и личности отражается четкое разделение пространства на две части в сознании носителей бурятского языка: ту, которая находится впереди человека, – урда бэеэ (тала) ‘передняя сторона’ и ту, которая по-
зади него, – ара (хойто) бэеэ (тала) ‘задняя сторона’ . Благодаря анатомическим свойствам человек «предпочитает» ту часть физического мира, которая расположена перед ним, оценивая ее положительно [Лакофф, Джонсон, 1990. С. 396]: урдаа хараха хyн ‘ тот, кто верховодит’ (букв.: впереди, видеть, человек) [Цыденжапов, 1992. С. 84], урда орохо ‘быть успешным’ (букв.: вперед брать) [Черемисов, 1973. С. 474], урид hанаатай ‘добродушный’ (букв.: впереди с душой) [Там же. С. 475] и др. То, что находится сзади, за спиной человека, интерпретируется как негативное, так как для наивной картины мира характерно восприятие пространства за спиной как скрытого или недоступного: ара барлаг ‘батрак, бедный человек’ (букв.: спина батрак) [Там же. С. 54], нюрганда хэлэхэ ‘говорить за глаза’ (букв.: спине говорить) [Там же. С. 344], арада дуугарха ‘говорить в отсутствие кого-либо’ (букв.: спине говорить) и др.
За действиями, направленными назад, закреплена отрицательная семантика: хойшоо гараха ‘стать ненужным’ (букв.: назад выйти) [Там же. С. 578] , хойшоо татаха ‘препятствовать’ (букв.: назад тянуть) [Там же] , юyмын урда орохогyй ‘безуспешно’ (букв.: вперед чего-либо не зайдет) [Цы-денжапов, 1992: 140] , гэдэргээ дуугараха ‘перечить’ (букв.: назад говорить) [Черемисов, 1973. С. 168] и др. Движение назад и действия, совершаемые сзади, вне поля зрения говорящего, ассоциируются в языковом сознании бурят с бездеятельностью, желанием чинить препятствия, враждебным отношением к людям: гэдэргээ буляалдаха ‘быть пассивным’ (букв.: назад отбирать друг у друга) [Там же] , хойшолхо ‘задерживать’ (букв.: двигаться назад) [Там же. С. 579], хойноhоо орохо ‘приставать с угрозами, обвинениями’ (букв.: сзади заходить) [Там же. С. 578] и др .
-
• Оппозиция ‘длинный’ - ‘короткий’ . Пространственные параметры ута ‘длинный’ – охор ‘короткий’ потенциально оценочны, так как недостаточность или избыточность длины объекта являются основанием для его психологической выделен-ности и отрицательной оценки: ута хэлтэй ‘болтливый’ (букв.: с длинным языком) , ута гартай ‘способный украсть’ (букв.: с длинными руками) , ута хушуутай ‘сплетник’ (букв.: с длинной мордой) [Там же. С. 479] , гонзорхо ‘шляться без дела’ (букв.: быть вытянутым в длину) [Там же. С. 156], охор ухаан ‘короткий ум’ , охор бодолтой ‘не-
- дальновидный’ (букв.: с короткими мыслями), охор hанаан ‘несообразительный’ (букв.: короткие мысли) [Там же. С. 366], охоршолхо ‘унывать’ (букв.: укоротить) [Там же] и др. Определение практическим сознанием объектов как длинных и коротких основывается на их сопоставлении с определенным эталоном длины, возникающим при сравнении предметов между собой по этому параметру.
Модель «качество пространства ^ характеристика действия» :
-
• Пустота пространства . В бурятской языковой картине мира категоризация пространства осуществляется на основе осознания его способности вмещать определенные объекты, которые и задают его пределы. Вследствие этого пространство и его части воспринимаются заполненными либо незаполненными, пустыми. Незаполненная часть окружающего мира именуется в бурятском языке хии ‘пустота; воздух’ [Там же. С. 569] , тала ‘степь, сторона’ [Там же. С. 411]. Образы пустоты (воздух, степь) послужили основой развития аксиологически маркированного значения ‘напрасно, впустую’ , ‘ошибочно’ в выражениях дэмы талаар ‘попусту’ (букв.: напрасно, стороной, степью) [Там же] , хии талада ‘впустую’ (букв.: пустота; стороной, степью) [Там же. С. 69] , хии будаха ‘высказаться ошибочно’ (букв.: стрелять в воздух) [Там же] , хии газар ‘зря’ (букв.: пустота, место) [Там же] и др .
-
• «Правильность» пространства . К пространственным характеристикам объектов реальной действительности относим такое свойство этих объектов как правильность геометрической формы предмета. Идея «правильной» формы предмета в языковом сознании бурят выражается в параметрах ‘прямой’ , ‘ровный’ , ‘круглый’ , идея ‘неправильной’ формы – в параметре ‘неровный, угловатый, с углами’ .
С образом прямой линии, прямого пути связан метафорический смысл ясности и точности восприятия: сэхэ хэлэхэ ‘говорить прямо’, сэхэ мэдyyлхэ ‘решительно заявить’ (букв.: прямо сообщить) [Там же. С. 405] , сэхэ урбалта ‘открытая измена’ (букв.: прямая измена) [Там же] и др.
Форма круга в сознании бурят символизирует целостность и гармоничность, идеальный порядок. Круглая форма жилища степняка – юрты, хотона ‘огороженных хозяйственных построек’, пастбищ, расположенных по окружности, центром которой является жилище, круговая форма загона для скота – хорёо, круговой маршрут традиционных кочевых перемещений, представление о структуре мироздания – все эти элементы физического пространства, окружающего номада, и его образа жизни выражают идею круга как символа гармонии. Основной признак круга – равноудаленность всех точек от центра проецируется на пространство кочевника и структурирует его. Это свойство пространства кочевника эксплицируется в выражениях тойрулан хамтаруулха ‘сплачивать’ (букв.: в круг собирать), добые тойруулха ‘обходить острый вопрос’ (букв.: обходить гору кружным путем) [Там же. С. 425], тухэре-элжэ духаряалха ‘пускать чару вкруговую’ [Там же. С. 450] (данное действие имеет сакральный характер и символизирует дружественное отношение, уважение исполнителей этого обряда друг к другу). Представление о физическом здоровье также связано с образом круга: монсогор улаахан ‘кровь с молоком (о человеке)’ (букв.: круглый, красненький) [Там же. С. 299].
В языковой картине мира бурят целостности и гармоничности круга противопоставлен угол. Слова, обозначающие пространственные объекты с выдающимися частями – углами, в результате семантической трансформации эксплицируют отрицательную оценку: шонтогонохо ‘вмешиваться не в свое дело’ (букв.: выдаваться углом) [Там же. С. 729] и др.
Таким образом, средством репрезентации представлений о пространственной организации языковой картины мира бурят, как и других этносов, являются метафоры с исходным пространственным значением и выражения, в состав которых эти метафоры входят. Метафорическая трансформация значения пространственных номинаций позволяет передать идею времени, общественных отношений, социально и личностно охарактеризовать человека. Модели мета-форизации в бурятском языке не являются специфическими, они отражают универ- сальные языковые процессы в семантике таких единиц. По нашим материалам, наиболее продуктивна модель метафоризации, результатом которой является переосмысление пространственных параметров, входящих в оппозиции ‘верх’ – ‘низ’, ‘близко’ – ‘далеко’, ‘впереди’ – ‘сзади’. Специфика отражения пространства в бурятском языке проявляется в своеобразии осмысления качественных признаков пространства ‘заполненность / незаполненность локуса’ (степь как образ пустоты), ‘правильность / неправильность формы пространственных объектов’ (круг как образ мироздания кочевника, способ структурирования пространства и символ гармонии, угол как нарушение «правильной» формы).
SPACE CONCEPT SCHEMES OF PRESENTATION OF MEANING IN BURYAT LANGUAGE