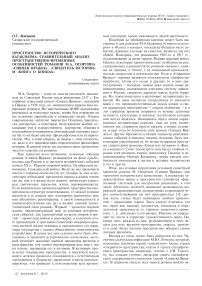Пространство исторического катаклизма: сравнительный анализ пространственно- временных особенностей романов М.А. Осоргина «Сивцев вражек», «Свидетель истории» и «Книга о концах»
Автор: Жиганова Ольга Геннадьевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Социально-гуманитарные науки
Статья в выпуске: 3 (8), 2010 года.
Бесплатный доступ
Сравнениваются пространственно-временные особенности романов М.А.Осоргина «Сивцев Вражек», «Свидетель истории» и «Книга о концах». Анализ является частью рассмотрения философии истории писателя, делается с целью наиболее полной ее характеристики. При определенном отличии сюжетной хронотопической структуры романов (что связано со сменой объектов изображения), при построении общероманного хронотопа каждого, несомненно, наблюдается и большое количество сходных моментов (приемы карнавализации повествования, сходные микрохронотопы, использование летописной манеры и т.п.).
Роман, хронотоп, исторический катаклизм, героиня, история
Короткий адрес: https://sciup.org/14821561
IDR: 14821561
Текст научной статьи Пространство исторического катаклизма: сравнительный анализ пространственно- временных особенностей романов М.А. Осоргина «Сивцев вражек», «Свидетель истории» и «Книга о концах»
М.А Осоргин — один из многих писателей, высланных из Советской России после революции 1917 г. Его наиболее известный роман «Сивцев Вражек», изданный в Париже в 1928 году, по эмигрантским меркам был невероятно успешен. Все напечатанные 40.000 экземпляров разошлись за несколько недель, роман был переведен на все основные европейские и славянские языки. Однако современному читателю творчество Осоргина, практически неизвестно, а. некоторые исследователи вообще отказывают ему в художественном мастерстве, обвиняя в неспособности подвергнуть описываемый материал какому бы то ни было анализу (философскому или историческому). Мы, в свою очередь, не можем с этим согласиться, видя в его произведениях определенную философию истории. В данной статье мы коснемся лишь хронотопи-ческого сходства его романов.
Как известно всем читавшим, основные события романа. «Сивцев Вражек» развиваются на. фоне судьбоносных для России и ее жителей исторических событий начала ХХ в.: Первой мировой войны, Октябрьской революции, Гражданской войны. Всего же мы проживаем вместе с героями около шести лет. Однако за этот относительно небольшой временной период в жизни героев так же, как и в жизни всего живого, происходят серьезные трагические перемены, жизнь переворачивается. Если внимательно проанализировать пространственновременную структуру повествования, то можно условно выделить в ее рамках три «атомарных хронотопа» (все они абсолютно равноправны, в своей совокупности и взаимопереплетении как раз и являют единый хроно-топический план романа). Первый – хронотоп мирной жизни, характеризующий мир до роковых исторических событий, как гармоничный во всем; второй и третий — хронотопы войны и революции, в конечном итоге приводящие к противопоставлению микропространства частной жизни человека и окружающего его мира, мира государства с новым общественно-политическим устройством. В сумме все они условно могут быть объединены в хронотоп исторического катаклизма, который изменяет заданные вначале параметры времени и пространства, тем самым переворачивая весь мир с ног на голову, превращая его в антимир. В антимире происходит сокращение пространства, в плоскости настоящего остатки прошлого сталкиваются с естественным стремлением к будущему, временные пласты контаминируются, что приводит к исчезновению всех времен- ных категорий, кроме ужасающего людей настоящего.
Подобная же обобщенная картина может быть выстроена. и для романов М.А.Осоргина «Свидетель истории» и «Книга, о концах», поскольку большая часть событий, лежащих в основе их сюжетов, является для них общей. Повторим, это революции 1905-го и 1917 гг., последовавший за ними террор, Первая мировая война. Однако некоторые хронотопические особенности рассматриваемых в данной статье романов связаны с самими их героями, а точнее, с их социальной принадлежностью, возрастом и деятельностью. Если в «Сивцевом Вражке» героями являются интеллигенты (профессор-орнитолог, члены его семьи и друзья), то в двух других романах — молодые, можно даже сказать юные революционеры, пытающиеся изменить систему правления в России, свергнуть царскую власть путем террора. Все герои вовлечены в круговорот исторических событий. Но одни пытаются отгородиться от внешнего мира с его противоестественным ходом жизни в своем привычном пространстве – старом особнячке – и в эти страшные времена сохранить те вечные духовные ценности, культурные и научные, носителями которых они всегда являлись. Оказавшись перед лицом кардинальных исторических перемен, они, по сути, подчиняются им, стараются просто выжить в новых условиях и при этом не изменить себе (роман «Сивцев Вражек»). Другие бросаются в самый эпицентр революционных событий в попытке творить историю, быть деятельными участниками ее, не желая оставаться простыми свидетелями (романы «Свидетель истории» и «Книга о концах»). Стоит посмотреть хотя бы на главных героинь этих романов, внучку орнитолога. Танюшу и революционерку Наташу Калымову, чтобы увидеть особенности отношения к жизни и истории человечества и тех и других.
Итак, мы условно определили основной сюжетный хронотоп романа М. Осоргина «Сивцев Вражек» как «хронотоп исторического катаклизма». А поскольку художественное время и пространство становится «формальной системой для построения различных, в том числе этических, моделей, возникает возможность моральной характеристики литературных персонажей через соответствующий им тип пространства» [1], данная часть статьи будет посвящена особым хронотопам – хронотопам героев. Здесь следует отметить, что все герои как таковые, разумеется, находятся в определенной зависимости от главного сюжетного хронотопа, т. к. действуют в его рамках. Именно он определяет их место в структуре художественного мира. Но, кроме того, каждый из них, функционируя в этом общем для всех времени-пространстве сюжета, занимает и сво¸, более частное пространство, обладает своим личным временем.
Исходя из этого, может быть определен их тип. Частично следуя классификации М.Ю. Лотмана, который, напомним, различал героев «замкнутого» locusa, героев «открытого» пространства, «пути» и героев специфического пространства, например, «степи» у Л.Н. Толстого, мы создали (точнее, насытили своим специфическим содержанием) типологию героев «Сивцева Вражка». В широком смысле всех героев романа можно на- звать героями «пути», т. к. большинству из них приходится искать свой путь, свое место в условиях новой, непривычной действительности. Через эту способность найти себя в новом мире герои доказывают свое право на дальнейшую жизнь. Именно этой способностью может быть объяснено наличие или отсутствие у них будущего. Те, кто вопреки всему готов принять действительность, находит радость даже в такой жизни, получает возможность жить (Танюша, Протасов и др.). Те же, кто плывет по течению, пассивно созерцает действительность, впадая в пессимизм и цинизм, обречены (Астафьев). Однако из их числа выпадают герои-старики, которые упрямо продолжают жить по своим давно выработанным правилам, будто не замечая, а точнее, не пугаясь произошедших изменений, принимая их с высоты своей житейской и ученой мудрости. Они просто приспосабливаются к новой жизни, доживая свой век, как могут (орнитолог). Также, кроме них, особое место занимают герои, по разным причинам совсем потерявшие свой путь и свое место (Обрубок, Эдуард Львович, Астафьев).
Схематично общая классификация типов героев такова:
Тип первый
-
- герои «замкнутого locusa» (профессор Иван Александрович, его жена Аглая Дмитриевна, Григорий);
Тип второй
-
- герои «пути» взросления (Танюша, Вася Болта-новский);
-
- герои «прерванного пути» (Стольников, Колча-гин, Астафьев).
Тип третий
-
- герои специфического пространства:
-
а) «антипространства» новой жизни (Завалишин);
-
б) специфического пространства искусства (Эдуард Львович).
Танюша, внучка орнитолога, относится к типу так называемых героев пути (как и друг ее детства Вася Болтановский). К этому типу мы отнесли героев, личность которых формируется непосредственно в переломную эпоху. Танюша и Вася почти ровесники, их детство прошло в дореволюционные времена, а период становления «личного мироздания» пришелся на годы революции. Таким образом, их «путь» в рамках сюжета и, соответственно, в рамках хронотопа исторического катаклизма – это путь взросления, становления личности. По мнению философов, на протяжении всей жизни, в каждый ее момент человек стоит на распутье, на перекрестке, решая, что выбрать – эгоизм или альтруизм, одиночество или общность с другими, однако все же первостепенное значение подобного рода решения имеют именно в этот период становления личности. На этом пути героям несколько раз приходится оказываться на незримых границах перехода от одного жизненного этапа к другому, переступать через эти возрастные пороги, узнавая жизнь и незаметно становясь старше, серьезнее. В романе этим путем герои идут параллельно, проходят одинаковые жизненные стадии, поэтому могут быть сопоставлены. Главная же разница между ними в том, что Танюша, за мыслительным процессом которой мы наблюдаем в течение всего ро- мана, делает это более осознанно, чем Вася, для которого все перемены большей частью происходят неожиданно, иногда даже незаметно. Но обо вс¸м по порядку. В начале романа мы видим Танюшу на пороге семнадцатилетия, девушкой, целиком еще не осознающей своей привлекательности, беззаботной, только начинающей размышлять над вопросами устройства и смысла жизни. Для нее «сво¸, мелкое, бытовое, житейское – великое, не разрешимое для мягких еще мускулов сознанья» [2]. И вот совсем скоро после этого события героиня переступает через первый порог, из «девочки-девушки» превращается, перерождается в женщину, чувствуя «новое для нее ощущение силы и желания» (Там же). Отрочество заканчивается, начинается юность. Вскоре героиня по-настоящему задумывается о любви, переживая незнакомое, тайное для тела и души ощущение, ощущение необходимости любви, пока слабо осознаваемой потребности в ней. Затем сталкивается с настоящей душевной болью, которую приносят вскоре начавшаяся война и революция, мгновенно, отнимающие у героев по три года жизни, заставляющие их быстрее взрослеть и быть не по годам серьезными. Хронологический и психологический возраст героев даже перестают соотноситься между собой. Танюша, например, выглядит то как «хрупкая и испуганная девочка, которая не знает, куда ей идти, у чьей двери постучаться, у которой на всем свете нет никого, кто мог бы указать и посоветовать»[2, с.83], то как взрослая женщина, но все-таки с детскими чертами лица. Подходит новый этап взросления: столкновение со смертью и победа над ней. «Онтология оптимизма состоит в том, что его надо реально выстрадать, выстрадать собой, своей жизнью» [3]. Танюша, раздумывая о ворвавшихся в ее ранее гармоничное существование смертях, утверждается в своем стремлении жить вопреки всему, найти себя и свое место в этом мире. Она побеждает смерть, и эта победа приводит ее к новому этапу, суть которого заключается в обретении верного спутника жизни. Неосознанное ожидание любви, стремление к ней сменяются настоящим зарождением чувства в душе. С волнением каждый день ждет прихода Протасова Танюша. Приходит «минута, через которую нужно перейти», и после этого героиня не просто чувствует себя взрослой, а становится ей. Сюжетный путь взросления заканчивается: все вопросы, которые мучили ее в семнадцать лет, кажутся Танюше детскими, теперь для нее «все понятно, и все обыкновенно» (Там же). Еще после смерти бабушки ставшая «хозяйкой особняка», она полноправно занимает теперь и место бабушки за столом. Продолжается счет поколений, проходит время старого орнитолога и Аглаи Дмитриевны, но их место занимают не дети, а внуки (в данной семье одно поколение оказывается выпавшим раньше времени из хода жизни). Танюша, таким образом, восстанавливает связь поколений, как бы проживая жизнь за себя и своих умерших молодыми родителей (напомним, она – «сама мать», только живущая в настоящем). Круг лиц за столом в основе своей тот же, однако статус и места их сменились. Герои, в начале романа уже пожилые, но полные сил, угасают, а прежние юнцы вырастают из подросткового возраста. При- ходит их время быть взрослыми. Их время – настоящее и будущее, а пространство шире, чем у представителей предшествующего поколения, не сосредоточено в стенах одного конкретного дома.
Теперь рассмотрим судьбу Наташи Калымовой. Если вспомнить о том, что жизненный путь всех героев в определенной степени обусловлен их социальным положением, то ее путь с самого начала определен тем, что ее детство «прошло между городом и деревней», т. е. на пространственно- временной границе двух миров: естественного, природного и созданного человеком городского, отгороженного от природного мира. Ее деревенское детство проходит без сознания о времени в рамках природного временно го цикла («На реке две зари: утренняя и вечерняя; а часов никаких нет» [2, с.228]) и природного же пространства: лес и река – два ее неизменных друга; бо′льшая часть представлений об устройстве мироздания, о жизни и смерти сформирована образом жизни в этой среде. В этот период жизни она абсолютно естественна, мечтает о будущем, о настоящей дружбе, любви. Попав в «большой» мир, героиня какое-то время продолжает воспринимать все происходящие вокруг нее события, опираясь на свои детские представления о мире. Даже думая о революции и ее деятелях, она скатывается на мысли о том, «любила ли Перовская Желябова? Какую роль в ее жизни сыграла эта любовь?» (Там же). Ведь это так естественно – думать о любви в ее возрасте. Оказавшись в среде революционеров и став одной из них, Наташа, как и все ее товарищи, начинает жить в совершенно другом по своим хронотопическим параметрам мире. Для нее не существует больше единого, монолитного пространства, оно разбивается, и по-настоящему доступными, безопасными становятся лишь его отдельные части: многочисленные конспиративные квартиры, дачи и т.п. Раньше у героини было пространство, которое она считала родным, в котором чувствовала себя комфортно, теперь во всем множестве окружающих ее микропространств нет ни одного подлинно своего. Таким же чуждым оказывается и наполнение этих пространств: «Костюмы, белье, галстуки, башмаки – все было новенькое, только что из магазина. Совсем не было случайных и старых вещей, которые сопровождают каждого,- милых, привычных и подержанных. Все было неношено, неудобно и ненужно» (Там же). Меняются и отношения Наташи со временем: в его сумасшедшем беге исчезают категории прошлого и будущего, властвует минута, от которой зависит весь исход дела и само¸ продолжение жизни. Не случайно при характеристике всей деятельной революционной юности Наташи и других героев, подобных ей, чаще всего возникают образы двух типов. С одной стороны, тумана, смутного облака, сна как чего-то ложного, мешающего ясно видеть само происходящее и его смысл; с другой стороны, игры, театра, комедии как чего-то неестественного, противостоящего истинной жизни: «Второй – Сеня, сам рабочий и из рабочей семьи, был мистиком, вечно в облаках мечты, красивых слов, с которыми он не мог справиться и которые в его устах звучали смешно и наивно, детскими стихами» (Там же); «Народ немолодой, почтенный, в большинстве семейный, а приходится как бы играть в революцию.» (Там же); «Все эти месяцы оба они жили не в быте, а в воображении, не оглядываясь, не одумываясь, ежеминутно готовые к тому, что их природе, может быть, чуждо, но совершенно неизбежно и неизмеримо высоко. Когда подошел день – в грудь повеял холодок, но тумана не рассеял» (Там же); «Прежние роли были сыграны – и как будто от прежних отношений ничего не осталось» (Там же); «Все они тоже приговорены к каторге и на долгие сроки, а две даже к бессрочной, – но как-то трудно этому поверить: словно бы и это только игра» (Там же). Как видно из приведенных цитат, игра в революцию так захватывает героев, что они забывают о прежнем образе жизни. В их сознании происходит замещение: спектакль (участие в революции) заменяет собой нормальную жизнь, и, находясь в его рамках, им приходится постоянно брать на себя какие-то роли. Поэтому, неосознанно включившись в систему естественных человеческих взаимоотношений, основанных на любви, привязанности или половом влечении, они продолжают считать, что играют роли. Даже освободившись от власти революционных мечтаний, большинство из них стесняются нормальной бытовой жизни и естественных семейных отношений.
Их возвращение к своей истинной человеческой природе проходит нелегко. Так, в «Книге о концах» сбежавшая во Францию Наташа сначала на какое-то время освобождается от власти пространства и времени: вновь начинает думать о будущем, которого раньше будто бы не существовало; после минутного размышления: «Куда? Направо или налево?» понимает: «Вообще хорошо! ну все равно, хоть налево!» (Там же). Затем, уже оказавшись на вилле в Италии, возвращается к жизни без календаря, по природному времени. И вот только здесь постоянно зовущая Наташу к нормальной, естественной, в некоторых аспектах основанной на инстинктах жизни (вспомним взаимный любовный порыв Наташи и Ринальдо в лесу) природа берет над ней, как и над остальными, верх. И если поначалу, чувствуя непонятную неловкость, все пытаются скрыть свою осведомленность о любовных отношениях Надежды Прота-сьевой и Гриши-акатуйца, то с течением времени этот «зародыш семейных отношений» начинает восприниматься адекватно – как естественный. На вилле и Наташа, наконец, выполняет свою главную природную функцию – становится матерью. Ей радостно от того, что все это случилось «просто и хорошо, безо всяких комедий и предисловий: никто не спросил – и никому не пришлось рассказывать. Просто – и по полному праву здоровых людей» (Там же). То, что избранником бывшей революционерки Калымовой становится Иван Иванович – «гуляющий человек, совершенно незнакомый с истерикой и ничем не больной», мужчина «не мечтаемый, а случайный», что настоящей любви между ними не было, а первое соитие произошло во время ночной прогулки, под луной, еще раз говорит об абсолютной природной естественности, даже некоторой инстинктивности этих отношений.
Таким образом, жизнь Наташи Калымовой представляет собой определенный круговорот: сначала постепенный отход от истинной жизни в согласии с при- родой, а затем неизбежное возвращение к ней через материнство. Борьба за жизнь дочерей, своего потомства, становится для нее важнее всего, даже собственной жизни, не говоря уже о революционных идеалах (« Россия подождет; она извинит матери» [2, с.473]). Кроме того, в «Книге о концах», повествующей о смертях главных героев романа «Свидетель истории», показано приобщение их к истинному миру, миру вечности. Как и в романе «Сивцев Вражек», это происходит либо посредством погружения в природную среду (напр., путь Наташи и профессора Белова через пустыню Гоби), либо через смерть (освобождение Оленя от желания сделать перед смертью театральный жест, смерть Николая Ивановича не от рук палачей, а в пучине моря, конец отца Якова в неизвестных лесах по пути из Киева на Чердынь), поэтому на этих моментах мы слишком подробно останавливаться не будем. Вернемся к философии истории.
Выводы, к которым мы пришли, таковы: при (пусть и неполном) рассмотрении хронотопических особенностей художественного мира романов «Свидетель истории» и «Книга о концах» (в данном случае мы рассматривали их в большей степени не как самостоятельные, а как взаимосвязанные, дополняющие друг друга до законченного целого) обнаружилось, что многие из них оказываются аналогичными тем, которые мы наблюдали в романе «Сивцев Вражек». И, по нашему мнению, это связано с двумя важными моментами. Во-первых, это может быть в определенной степени объяснено некоторыми особенностями построения картины действительности в искусстве вообще и в литературе в частности. Здесь нам кажется уместным сослаться на П.А.Флоренского, считавшего вопрос о пространстве одним из «первоосновных в искусстве и в миропонимании вообще» [4] и посвятившего ему ряд специальных исследований. Приводимая цитата взята из работы, касающейся преимущественно построения пространства и времени в живописных произведениях, поэтому не может в полной мере быть отнесена к анализу произведений литературы и отразить их специфику. Однако, на наш взгляд, она интересным образом освещает и помогает понять выявленные нами моменты сходного построения пространства в разных романах М.А.Осоргина, посмотреть на них под другим углом: «Итак, построение картины действительности требует, чтобы ни пространство, ни вещи не были доводимы до предельной нагрузки. Но мера этой нагрузки всякий раз обусловлена характером и размерами рассматриваемой действительности, стилем мышления и поставленными задачами работ. в общем, можно сказать, что выгодно возложить на пространство все то, что в пределах разбираемой действительности может считаться относительно устойчивым и всеобщим» (Там же). П.А. Флоренский здесь имеет в виду именно «разбираемую действительность», т. е. только сам объект созидания (анализа), не касаясь его реальных прототипов и истоков, тех «кусков» жизни, которые подверглись художественному осмыслению и творческому воспроизведению, реконструкции. Но ведь, если серьезно подумать над его высказыванием, можно сделать и другой вывод: при определенных условиях, т. е. при художественном осмыслении одного и того же куска реаль- ности, пространство нескольких произведений может оказаться построенным сходном (не абсолютно одинаковом!!!), обладать сходными признаками и качествами. Раз что-то в пределах художественной действительности может обладать относительной устойчивостью и всеобщностью, то логичным оказывается утверждение, что частям реального пространства подобные черты также присущи. И именно они акцентируют на себе внимание автора, осознанно или неосознанно отражающего их при построении своей картины действительности. Конечно, в большинстве случаев общность темы (по Флоренскому – «конструкции») по понятным всем причинам не приводит к единообразию в ее выражении даже у одного творца, не говоря уже о разных. Как пишет вначале сам Флоренский, «произведение как таковое, вполне независимо от конструкции действительности» [4, с.121]. Далее, однако, делая оговорку: «Таким образом, в произведении два слова, слово действительности и слово художника, соединяются в нечто целое» (Там же). Возможно, именно таким путем, наделяя пространства разных романов сходными чертами, и проявляет себя это «слово действительности». Ведь фоном для описываемого оказываются одни и те же исторические события российской и мировой истории, «одна действительность». Ее черты , воспринятые Осоргиным как наиболее устойчивые и всеобщие, перенесены им и на действительность своих романов, поэтому оказались общими для них. Единый событийный источник повлек за собой сходства в своем воспроизведении, при построении картины художественной действительности отразившись в сходном хроно-топическом построении разных романов. То есть, если слегка перефразировать вышеупомянутое высказывание П.А.Флоренского и сделать в нем несколько другие акценты, Осоргин выгодно возложил на художественное пространство все то, что в пределах реальной, исторически имевшей место, воспринятой и переработанной им действительности могло считаться относительно устойчивым и всеобщим.
Кроме того (во-вторых), рассматриваемое нами явление, конечно, может быть объяснено исходя не только из способов и методов построения картины действительности, т. е. организации формы произведения, но и из содержательной его стороны путем рассмотрения системы авторских взглядов. В нашем случае — взглядов на историю как явление. Ведь сопоставляемые в данном исследовании героини – Танюша и Наташа Ка-лымова – совершенно разные, также, как и степень их причастности к истории. Их объединяют только молодой возраст и определенная близость к природной жизни. Остальное, начиная с самих истоков этой близости, прямо противоположно. Танюша занимается изучением истории, поступив на исторический факультет и слушая лекции профессора об исторических закономерностях, отсутствии прогресса в истории, ее повторяемости, круговороте. Наташа, так толком и не начав учебу, примыкает к людям, которые не тратят времени на теоретические споры и рассуждения, и бросается с ними в бой «за счастье будущих поколений». Однако, попав в воды истории, они оказываются в одинаковом положении (пусть и по разным причинам): вре- мя, летящее с сумасшедшей скоростью, лишает их категорий прошлого и будущего, «бесследно процеживает не только давнее, но и вчерашний день», порождая несовпадение хронологического и психологического возрастов. «Они были слишком молоды для такого фатализма, – но они жили в стране, судьбы которой не вычислены никакими астрологами, пути которой никому не ведомы, в стране великого ребячества взрослых и старческой мудрости юношей» [2, с.277].
Сокращающееся пространство пытается захватить, делая всякие передвижения опасными. Жизнь в кругу постоянно увеличивающегося количества смертей захватывает обеих.
Таким образом, сходные черты рассматриваемых нами хронотопов убедительно говорят о том, что, по мнению М.А. Осоргина, в переломные эпохи все люди оказываются в похожих, зачастую противоестественных, жизненных условиях. История не знает особых различий между людьми, приравнивая и подминая как простых свидетелей, так и деятельных участников.
Список литературы Пространство исторического катаклизма: сравнительный анализ пространственно- временных особенностей романов М.А. Осоргина «Сивцев вражек», «Свидетель истории» и «Книга о концах»
- Лотман Ю.М. В школе поэтического слова:Пуш1. кин, Лермонтов, Гоголь. М.:Просвещение, 1988. С.256.
- Осоргин М. Сивцев Вражек//Времена. Екате2. ринбург:Средне-Урал. кн. изд-во, 1992. С.14.
- Исаев В.Д. Человек в пространстве цивилизации 3. и культуры. Луганск:Свiтлиця, 2003. С.183.
- Флоренский П.А. Анализ пространственности и 4. времени в художественно-изобразительных произведениях. М.:Прогресс, 1993. С. 297.