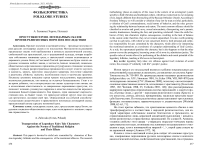Проступки героев легендарных сказок против религиозных норм и их последствия
Автор: Залевска Анна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Фольклористика
Статья в выпуске: 3 (58), 2021 года.
Бесплатный доступ
Предмет изучения в настоящей статье - греховные поступки героев русских легендарных сказок и их последствия. Методология исследования предполагает анализ этой проблематики в контексте аксиологической системы, свойственной как христианской, так и традиционной культуре, которая выработала собственное понимание греха, в значительной степени отличающееся от церковного учения. Вслед за Светланой Толстой греховным мы будем считать нарушение человеком любого закона, в частности, Божьих заповедей, социальнообщественных норм поведения и принципов, регулирующих отношение человека к природе. К самым распространенным провинностям следует отнести: скупость и жадность, зависть, проступки сексуального характера, отсутствие уважения к родителям, убийство, пьянство, несоблюдение поста и магические практики. Поскольку греховное поведение героев чревато последствиями, нарушающими космическое равновесие, они никогда не остаются безнаказанными. Стоит в то же время добавить, что в интересующих нас сказках существует как личная, так и коллективная ответственность за совершенные персонажами проступки, что позволяет толковать упомянутые нарративы в качестве свидетельства народного понимания Божьей справедливости. Как правило, героя наказывает сверхъестественная сила, но бывает также, что правосудие вершит другое лицо или даже сам протагонист, осознавая свой грех. Определенный ход событий способствует реализации дидактического и нравственного потенциала легендарной сказки, преподносящей своему адресату жизненный урок.
Легендарные сказки, грех, преступления перед богом, нарушение социально-общественных норм, идея солидарности с жизнью, народная справедливость
Короткий адрес: https://sciup.org/149139248
IDR: 149139248 | DOI: 10.54770/20729316_2021_3_456
Текст научной статьи Проступки героев легендарных сказок против религиозных норм и их последствия
Мотив греха и его последствий является особенно показательным для повествований, выделенных в указателях, составленных по системе Аарне-Томпсона под № 750-849. Их преимущественно называют религиозными [religious tales; см. ATU; Simonsen 1984, 16; Ecker 1996, VIII, 869-870] или легендарными сказками [СУС; Иванова 2008], поскольку они воплощают основные нравственные ценности, восходящие к христианству [Kosowska 1985, 102; Wozniak 1988, 25; Ferfecka 2003, 148]. Для рассматриваемых нарративов характерна определенная система персонажей: с одной стороны, обычные люди, с другой - персонажи религиозного плана (Христос и его апостолы, святые, ангелы), проверяющие, насколько крестьяне ведут себя благочестиво. Поэтому религиозные сказки выполняют три основных функции: познавательную, нравоучительную и дидактическую [Wozniak 1988, 62-63, 71].
Не стоит притом забывать, что христианские ценности обычно в них трансформируются в соответствии с народной религиозностью, для которой характерно собственное понятие благочестия и греховности, не ограничивающееся лишь церковной концепцией выполнения / невыполнения религиозных и нравственных предписаний. По словам В. Аникина, «главное свойство этого жанра - утверждать морально-этические нормы христианства или идеи, возникшие под влиянием воодушевленного отношения к вере, хотя и понимаемой на мирской <...>, порой даже совсем не на церковный манер» [Аникин 1972, 16].
В связи с этим в настоящей статье речь пойдет об основных проступках, совершенных персонажами русских легендарных сказок в контексте аксиологической системы, свойственной как христианской, так и традици-

онной культуре.
Мотив греха в народной культуре
Грех - это понятие религиозного происхождения, связанное с Божьими заповедями и христианским мировоззрением, а кроме того, оно является неотъемлемой частью человеческого чувства справедливости. Согласно библейской традиции, главным источником всякого зла является дьявол, побуждающий человека сопротивляться задуманной Богом нравственности и гармонии. Совершить грех можно, по сути, в трех планах: против Бога, другого человека или себя. Человек нарушает религиозные принципы нежелательными поступками и словами, плотскими мыслями, а также самими намерениями совершить злодеяние [Maslowska 2015, 261-262].
Согласно восточной христианской теологии, можно выделить восемь главных греховых страстей: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. Они часто понимаются как эквивалент семи смертных грехов в католической традиции. Притом в зависимости от сущности греха, его осознания различаются провинности тяжелые и легкие.
Для наших рассуждений грех важно понимать в более широком смысле. Вслед за С. Толстой мы будем его считать синонимом нарушения любого закона, в частности, Божьих заповедей, общественных норм поведения и принципов, регулирующих отношение человека к природе [Толстая 2000 а, 11]. Такое понимание греха восходит к устной народной традиции, как правило, сочетающей элементы славянского язычества, греческого ахристианства (нехристианства; используем термины, введенные Н. Толстым) и христианства византийского происхождения, сосуществующих в рамках троеверия [Толстой 1998, II, 430].
Этот мировоззренческий синкретизм лежит в основе идеи «солидарности с жизнью» [Thomas, Znaniecki 1976,1, 175-181; Tomicki 1981, 41-42] и веры в космическое равновесие, которое человек должен поддерживать ежедневными усилиями, чтобы не навлечь на себя и других членов сообщества какого-либо несчастья. Поэтому нельзя было, например, загрязнять воду, обнажаться на солнце или срывать растения, если не было жизненно важной причины. Кроме того, греховным считалось нарушение календарных запретов, в том числе несоблюдение поста в среду и пятницу, брачные половые отношения в ночь на среду, пятницу и воскресенье, а также работу в воскресенье и пятницу [Амосова 2014, 137].
В народном понимании серьезность моральных провинностей оценивалась в зависимости от обстоятельств. Греховным было, например, убийство человека и любого живого существа, а также воровство из жадности, в то время как кража из необходимости проступком не считалась.
Согласно как иудео-христианской, так и народной традиции, более склонным к греху считался женский пол, что, несомненно, связано с возложением на Еву ответственности за первородный грех. Поэтому неудиви- тельно, что особое внимание уделялось именно женскому целомудрию -утрата девственности незамужней девушкой могла навести бедствие на весь социум [Толстая 2000 Ь, 375-376]. Кроме того, женщина считалась существом опасным и вредоносным из-за своих физиологических свойств и предрасположенностей, т.е. менструации, способности к родам и к лактации.
Несмотря на вышеупомянутые различия между церковным и народным пониманием греха, надо отметить, что, согласно верованиям, в обоих случаях за хорошее поведение после смерти для человека был предусмотрен рай, в то время как за плохие поступки угрожали адские муки. Любопытно, что в традиционной культуре представление о загробном мире было основано на земных законах [Мороз 2000, 204]. В сельских общинах распространилось мнение, что наказание достаточно часто основывается на виде самого греха, т.е. каким образом человек согрешил, такие же будут последствия его поступка [Амосова 2014, 137].
Выступление против Декалога в легендарных сказках
Как было сказано выше, главным мотивом, встречаемым в легендарных сказках, является грех, понимаемый как нарушение религиозных и социально-общественных запретов. К наиболее частым провинностям относятся: скупость и жадность, убийство и подстрекательство к нему, неуважение к родителям, прелюбодеяние, инцест, внебрачные сексуальные контакты, колдовство, несоблюдение поста и чревоугодие (пьянство). Поскольку согрешивший герой каждый раз наказывается, рассматриваемые нарративы убедительно выполняют дидактическую функцию, непосредственно связанную с чувством справедливости и должным порядком, установленным высшей силой и социумом.
Герои легендарных сказок, как правило, представлены стереотипно. Как в евангельских притчах, так и в народной прозе, например, бедняки являются великодушными людьми, в отличие от скупых и высокомерных богачей [Ferfecka 2002, 146]. Обычно Бог (Христос), сам или в присутствии одного из апостолов (чаще всего св. Петра), навещает героев в надежде на гостеприимство (СУС - 750В**** «Чудесные странники (Христос и св. Петр на ночлеге, на перевозе)»). Бедный мужик искренне угощает странников, нередко, как герой записи А. Афанасьева, не жалея зарезать овцу - единственное животное в своем хозяйстве, в то время как его богатый сосед в расчете на еще большую прибыль уничтожает все стадо овец. Проявленная почтительность награждается увеличением количества животных, а жадность оборачивается печальными последствиями: «...стадо его не только не умножилось стократ, оно совсем пропало! Жалуясь на потерю всего своего добра, он пошел с проклятиями и утопился» [Афанасьев 1859, 3, XXVI]. В свою очередь, супруги, которые не пригласили к ужину чудесных странников, лишаются своего жилища, а поведение женщин из одного селения, отказавшихся напоить пророка Илью («Не для тебя я воду
нашивала <.„> Не для тебя я плечи гнула <.„>» [Карнаухова 2008, 130, 291]), навлекает бедствие на всю деревню, провалившуюся сквозь землю и оставившую после себя глубокое озеро (СУС 750* «Скупые хозяева»).
Переодеваясь в странников, Христос и святые обнаруживают греховность человеческой природы, показную религиозность, выявляя пренебрежение людей к одной из основных христианских ценностей, а именно к любви и уважению к ближнему
Одной из самых важных ценностей в традиционной религиозности выступает почитание родителей. Наказывается уже само непослушание матери или отцу, а тем более насилие над ними. В таком случае на ребенка может обрушится проклятие или другие серьезные последствия, например, потеря всего имущества (СУС 779В*, С* «Наказание за непочтение к матери (отцу)»). В одном из вариантов этого сюжетного типа три сына совсем не ухаживают за своей матерью: обижают ее и кормят раз в неделю, не обеспечивают ее необходимой одеждой. Наконец, они продают ее барину [Смирнов 1917, 81, 309]. Такую же сделку заключают герои варианта Ончукова [1908, 280, 561].
В традиционной культуре отсутствие уважения к родителям и послушания к ним разрушало основную модель семейных отношений и, одновременно, космическое равновесие. Притом можно заметить диспропорцию между правами, предоставленными обычаем детям и их опекунам, вытекающими из строгой семейной иерархии. Ребенок должен всегда руководствоваться заповедью: «Почитай отца своего и мать свою», в то время как сугубо в сельских общинах допускалось словесное и физическое насилие родителей над детьми, в том числе ругательства, проклятия или даже избиение.
Особенно тяжелой провинностью с точки зрения христианской морали считалось убийство отца и матери. В записи из сборника Смирнова [1917, 82, 310] к такого типа преступлению купца побуждает его жена, внушая герою, каким образом он может привести своих родителей к смерти: «Одного задави шарфом, а другой запихай в рот платок». К тому же выясняется, что купчиха прелюбодействует и во время отсутствия супруга выходит замуж за другого мужчину (СУС 756F* «Убийца родителей»),
В религиозных сказках очень часто именно женщина подстрекает мужчину к тяжкому проступку и сама совершает прелюбодеяние. Согласно традиционному мировоззрению, она, как было сказано выше, будто предрасположена к разврату, а кроме того, как существо по своей природе изменчивое, находит удовольствие в искушении и побуждении ко греху. Из этого следует, что в легендарных сказках образ женщины, собственно, основан на истории библейской Евы.
Бывает, что герой намеревается убить свою супругу, однако его планы не осуществляются - жена, закопанная живой в могилу, выходит наружу, в то время как мужчина сходит из-за этого с ума (СУС 767* «Наказание за двоеженство»). Возможен, например, следующий ход событий: женатый офицер связывается с молодой девушкой, после чего законная жена умерщвляет их общего сына. Вскоре она сама погибает, выпивая отравленный матерью мертвого мальчика чай, но убийство неумышленное. Несмотря на это, вторая жена похоронена заживо, однако ей удается встать из гроба. Зато прелюбодей врет своей теще, что его жена здорова, родила ребенка и присматривает за хозяйством. После этого он встречает свою супругу и лишается ума [Смирнов 1917, 95, 329].
Приведенный пример является ярким доказательством того, каким образом один грех может привести к ряду семейных трагедий. Все провинности, касающиеся заповеди «Не прелюбодействуй», являются особенно греховными, поэтому в сказке их последствия столь серьезны. Поступок героя определяет судьбу не только его самого, но и его жены, любовницы и даже ребенка. Притом наиболее сложным оказывается нарушение моральной границы первый раз. Каждая следующая провинность необязательно вызовет те же самые угрызения совести, поскольку заявляет о себе нравственный релятивизм, затмевающий истинную сущность собственного поведения.
В легендарных сказках разрабатывается также противоположный случай, в котором родители убивают своих детей. Притом мы имеем дело с абортом или с умерщвлением уже родившегося ребенка (СУС 765А* «Наказанная детоубийца»). Так, героиня записи Смирнова закапывает в лесу трех сыновей, появившихся на свет в результате внебрачных половых сношений [Смирнов 1917, 70, 290].
Сельские общины в отличие от горожан воспринимали человеческую сексуальность относительно нейтрально: она сама по себе не считалась объектом табу, о чем свидетельствовали, например, свободные разговоры на тему половой жизни, различные обряды (например, свадебные, купальские) или наличие эротических, а нередко также непристойных мотивов в фольклорных песнях [Топорков 1995, 10-18]. С другой стороны, исключительно строгим являлось отношение крестьян к внебрачной беременности. Половые акты партнеров, не состоящих в браке, были официально запрещены, несмотря на то что на практике они неоднократно разрешались [То-micki 1981, 64]. Однако последствие интимных контактов в виде рождения незаконного ребенка являлось поводом для стыда, поэтому некоторые девушки пытались сделать аборт у местной знахарки или самостоятельно привести к выкидышу. В связи с умомянутой сферой жизни можно заметить гендерное неравенство, потому что именно женщина встречалась с более жесткой реакцией крестьянского сообщества, чем мужчина.
Следующей провинностью, касающейся сексуальной сферы, является инцест (СУС 781 «Детоубийца»), В одном из вариантов купец насилует свою дочь, поскольку она очень похожа на его покойную супругу: «Обуяла его нечистая любовь, приходит он к родной дочери и говорит: “Твори со мной грех!” <„.> И сотворил с нею грех насильно, и с того самого времени понесла она чадо» [Афанасьев 1985, III, 339, 36]. К тому же насильник приказывает забеременевшей девушке обвинить в отцовстве приказчика.
Половая связь между людьми, так или иначе состоявшими в кровном
родстве, всегда считалась культурным табу как проявление извращенного сексуального акта. Этот мотив встречается и в волшебных повествованиях, но в большинстве случаев остается лишь на декларативном уровне (СУС 510В «Свиной чехол»),
К числу других низменных инстинктов относится пьянство (СУС -800А* «Пьяница в аду»). Для того, чтобы получить алкоголь, герой готов даже отдать дьяволу свою душу [Афанасьев 1859, 29, 180]. Таким образом он не только становится вдвойне обреченным, но его ожидает печальная посмертная участь. Алкоголизм строго осуждался христианской традицией, поскольку св. Павел в Первом послании к Коринфянам проповедует: «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: <...> пьяницы <...> Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6:9-10).
Протагонисты ряда легендарных нарративов не останавливаются на одном основном грехе, но многократно нарушают как религиозные, так и социальные нормы. К примеру, по наущению дьявола мужчина сначала напивается вина, потом не соблюдает пост, принимая скоромную пищу, или совершает блуд, наконец убивает человека (СУС 839 «Один грех влечет за собой другие»), В одном из вариантов девушка, посланная чертом, подговаривает пустынника к худым делам - можно лишь догадываться, что речь идет о половых сношениях, потому что героиня намеревается «играть» со стариком, а при этом хочет избавиться от своего брата [Садовников 1884, 97, 288]. В результате оба персонажа решают лишить жизни молодого парня топором.
В рассматриваемом нарративе пустынник не проявляет ожидаемого благочестия и силы духа. Напротив, его греховное поведение - доказательство несовершенства человеческой природы. Оказывается, однако, что спасение души старца не зависит лишь от его поступков. Оно обусловлено еще сильной верой в Божье милосердие, что следует понимать как влияние христианской теологической доктрины на языческую систему верований [ср. Левкиевская 2004, 356].
Кроме того, дьявол прочно связан с магическими практиками, лежащими в основе грехов, которые совершают герои легендарных сказок. Персонаж, наиболее ассоциирующийся с ними - это колдунья, часто называемая ведьмой. Она представлена обычно в облике пожилой женщины, регулярно отправляющейся на шабаш (СУС -832** «Солдат и ведьма»). Колдунья обладает при этом необыкновенными способностями: например, превращается в сороку [Зеленин 1915, 15, 68].
На народное изображение ведьмы как демонического персонажа повлияла убежденность в том, что женщина - это существо исключительно греховное по своей природе, чем объяснялась ее склонность сотрудничать с дьяволом. Внешний вид и поведение сказочно-легендарной колдуньи соответствует культурному представлению о ней как о спутнице сатаны, обладающей умением летать и принимающей участие в разнузданном пире -шабаше. Известна также ее способность к оборотничеству [Виноградова
2000, 230-231].
Виды наказания за грех в легендарных сказках
Как было сказано выше, согласно народным верованиям, любой грех нарушает космическое равновесие [Толстая 2000 а, 39], а человека, ответственного за плохой поступок ждет наказание на этом или «том» свете. Притом грешник осуждается как высшей силой, так и природой [см. Толстая 2000b, 376], а последствия нарушения религиозного либо социального запретов имеют осязаемый характер. Это могут быть: стихийные бедствия, смерть, болезнь, слепота и паралич, разные физические и психические недостатки [Толстой 1995,1, 545].
В легендарных сказках главным судьей, оценивающим человеческие поступки, является Бог или неопределенная сверхъестественная сила, особенно в случаях, когда последствия греха не могут быть объяснены рационально. Очевидным примером служит судьба негостеприимных жителей села, полностью затопленного Творцом [Карнаухова 2008, 130, 291]. Последствия нечестивого поступка могут повлиять также на жизнь ближайших родственников грешника. Именно так происходит с супругами мужчин, продавших барину свою мать, поскольку их дом проваливается [Смирнов 1917, 81, 309].
Случается также, что последствия чужой провинности не обрушиваются непосредственно на членов семьи согрешившего или других людей, но приводят к ходу событий, усложняющему их судьбы и ведущему к очередным морально неправильным поступкам. В легендарных сказках такой эффект снежного кома может быть вызван, например, двоеженством, после которого наступает отравление, а затем смерть как ребенка, так и жены главного героя, в то время как он сам сходит с ума [Смирнов 1917, 95, 327-329].
Согрешившего героя может наказать какой-либо другой персонаж. Такова судьба купца, вступившего в половые сношения со своей дочерью -когда правда выходит наружу, царь приказывает его убить [Афанасьев 1985,111,339,37].
Несмотря на то, что в Восточной Европе XV XVII вв. число проведенных охот на ведьм являлось небольшим по сравнению с Западной Европой, в легендарных сказках сохранился мотив, связанный с казнью «приспешниц дьявола» (СУС -832** «Солдат и ведьма»).
Наконец, герой сам может наказать себя за свои плохие наклонности, например, покончив жизнь самоубийством [Афанасьев 1859, 3, XXV XXVI]. Согласно народным верованиям, человек делает это по подстрекательству дьявола [см. Zadurska 2019, III, 122]. Как умершие «не своей смертью» самоубийцы обрекали себя на вечное проклятие.
В легендарных сказках наказание за совершенный грех часто бывает немедленным, и герой должен искупить свою вину еще при жизни. Так случается, например, с девушкой, убившей своих незаконных детей: ее

груди сосут три змеи. Муки заканчиваются только после публичного покаяния [Смирнов 1917, 70, 290]. Вторым примером, когда провинность героя автоматически навлекает на него негативные последствия, является история сыновей, продавших родную мать. Женщина буквально прирастает к ним, и с тех пор они вынуждены ее кормить [Ончуков 1908, 280, 561].
В некоторых случаях герой вынужден заслужить прощение грехов после смерти (на тему т.н. «легенд об обмираниях» писала Л.Л. Ивашнева [2016, 25]), если он раньше не покаялся. В такой ситуации необходима помощь некоего постороннего человека, часто священника (СУС 760 «Мертвец за грехи не имеет покоя в могиле»).
Известны случаи, когда покойник расплачивается за чужие провинности. Так, земля не принимает юнлши, проклятого своей матерью за то, что поступил на военную службу. Наконец он обретает покой благодаря заступничеству брата [Афанасьев 1985, III, 359, 67-68].
Согласно традиционным верованиям, отражающимся в легендарных сказках, существуют и такие провинности, как, например, пьянство, за которые человек низвергается прямо в ад [Афанасьев 1859, 29, 180]. Чревоугодие как одна из восьми греховных страстей в православной аскетике считается пороком, ведущим ко многим другим нравственным провинностям. Состояние алкогольного опьянения отнимает у человека способность мыслить рационально, что способствует пробуждению низменных инстинктов. Таким образом, пьянство приближает персонажа к демонической сфере и, в конце концов, навлекает на него проклятие.
В заключение наших рассуждений стоит сказать, что в легендарных сказках непосредственно отражены главные человеческие грехи и пороки. Герои почти никогда не остаются безнаказанными за совершенные проступки, благодаря чему осуществляется дидактическая функция интересующих нас нарративов. Поэтому этот тип повествований можно понимать как нравственное руководство, соответствующее крестьянскому менталитету. Небезынтересно отметить, что отдельные виды наказаний за перечисленные выше провинности совпадают с традиционной картиной мира, сочетающей в себе моральный релятивизм и христианские ценности.
Список литературы Проступки героев легендарных сказок против религиозных норм и их последствия
- Амосова С.Н. Грех и наказание: нарушение календарных запретов в культуре восточных славян // Religo. Альманах Московского религиоведческого общества. 2014. № 1. С. 137-144.
- Аникин В.П. Художественное творчество в жанрах несказочной прозы. (К общей постановке проблемы) // Русский фольклор. Материалы и исследования. 1972. № 13. С. 6-19.
- Виноградова Л.Н. Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян. М.: Индрик, 2000. 432 с.
- Иванова Т.Г. От былички - к легендарной сказке: (мотив «покойник, встающий из гроба» в русском фольклоре) // Русский фольклор. Материалы и исследования. 2008. № 33. С. 3-27.
- Ивашнева Л.Л. К проблеме специфики и систематизации фольклорной легенды. Ч. 1 // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 7 (61). С. 23-26.
- Левкиевская Е.Е. Представления о «том свете» у восточных славян // Славянский альманах. 2003. № 8. С. 342-367.
- Мороз А.В. Представления о грехе в современной традиционной культуре Русского Севера // Концепт греха в слявянской и еврейской культурной традиции / ред. О.В. Белова. М.: Сэфер, 2000. С. 195-205.
- Пропп В.Я. Поэтика фольклора. М.: Лабиринт, 1998. 352 с.
- Толстая С.М. Грех в свете славянской мифологии // Концепт греха в сля-вянской и еврейской культурной традиции / ред. О.В. Белова. М.: Сэфер, 2000. С. 9-43.
- Толстая С.М. Преступление и наказание в свете мифологии // Логический анализ языка. Языки этики / ред. Н.Д. Арутюнов, Т.Е. Янко, Н.К. Рябцев. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 373-379.
- Толстой Н.И. Грех // Славянские древности. Этнолингвистический словарь. Т. 1 / ред. Н.И. Толстой. М.: Институт славяноведения Российской академии наук, 1995. С. 544-546.
- Толстой Н.И. Язычество и христианство Древней Руси // Толстой Н.И. Избранные труды. Т. 2. Славянская литературно-языковая ситуация. М.: Языки русской культуры, 1998. С. 422-430.
- Топорков А.Л. Эротика в русском фольклоре // Русский эротический фольклор / ред. А.Л. Топорков. М.: Ладомир, 1995. С. 5-18.
- Ecker H.P. Legendenmärchen // Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung. Bd. 8 / vlg. R.W. Brednich, red. I. Köhler, U. Marzolph, Ch.S. Kawan, H.J. Uther. Berlin: De Gruyter, 1996. P. 868871.
- Ferfecka E. Swiçci i grzesznicy. Bohater jako jeden z wyznacznikow gatun-kowych legendy ludowej // Genologia literatury ludowej. Studia folklorystyczne / red. A. Mianecki, V. Wroblewska. Torun: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2002. P. 139-148.
- Kosowska E. Legenda. Kanon i transformacje. Sw. Jerzy w polskiej kulturze ludowej. Wroclaw: Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, 1985. 158 p.
- Maslowska E. Grzech i pokuta - etos sprawiedliwosci w ludowym kodeksie moralnym // Tradycja dla wspolczesnosci - ci^glosc i zmiana. T. 8. Wartosci w jçzyku i kulturze / red. J. Adamowski, M. Wojcicka. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Ma-rii Sklodowskiej-Curie, 2015. P. 261-284.
- Simonsen M. Le conte populaire. Paris: Presses Universitaires de France, 1984. 224 p.
- Thomas W.I., Znaniecki F. Chlop polski w Europie i Ameryce. T. 1. Organizacja grupy pierwotnej / przel. M. Metelska. Warszawa: Ludowa Spoldzielnia Wydawnicza, 1976. 385 p.
- Tomicki R. Religijnosc ludowa // Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej. T. 2 / red. M. Biernacka, M. Frankowska, W. Paprocka. Wroclaw: Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, 1981. P. 29-70.
- Wozniak A. Podanie i legenda. Z badan nad rosyjsk^ proz^ ludow^. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1988. 200 p.
- Zadurska O. Samobojstwo // Slownik polskiej bajki ludowej. T. 3 / red. V. Wroblewska. Torun: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2019. P. 121-125.