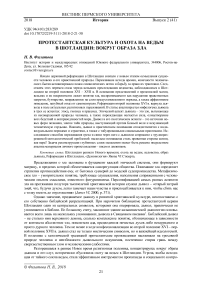Протестантская культура и охота на ведьм в Шотландии: вокруг образа зла
Автор: Филатова Н.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История Европейских стран и регионов
Статья в выпуске: 2 (41), 2018 года.
Бесплатный доступ
Начало церковной реформации в Шотландии совпало с новым этапом осмысления сущности человека и его нравственной природы. Переживание исхода времен, конечности человеческого бытия активизировало поиск символических истин и борьбу за право их трактовки. Следствием этих перемен стала череда вспышек преследования ведовства, наблюдавшихся в Шотландии во второй половине XVI - XVII в. В основании представлений о вредоносной магии, ведьмах и их покровителях лежит понятие зла, воспринимаемого как нарушение нравственных запретов, бунтарство, направленное на слом предустановленного порядка, а также аффективное поведение, пагубный отказ от самоконтроля. Реформация второй половины XVI в. вернула дьявола в поле актуальных религиозных переживаний. В статье анализируется мифологема дьявола в трех ее аспектах: этоса, гнозиса и праксиса. Этический аспект дьявола - это зло, вытекающее из несовершенной природы человека, а также порождающая несчастья сила, олицетворение всех бедствий и несправедливостей мира. Дьявол в его гностическом аспекте - это источник новых форм познания, знаток тайн природы, выступающий против Божьей воли и искушающий человеческую гордыню. Наконец, дьявол в практическом понимании отождествляется с индивидуальными пороками и страстями, а также с табуированными социальными практиками. Исследование способов переживания греха и связи через него с дьяволом сопряжено с трудноразрешимой методологической проблемой: насколько познаваема столь приватная сторона жизни, как вера? Задача реконструкции глубинных слоев мышления может быть решена посредством анализа материалов личного происхождения - писем и дневников.
Шотландия раннего нового времени, охота на ведьм, ведовство, образ дьявола, реформация в шотландии, "демонология" якова vi стюарта
Короткий адрес: https://sciup.org/147245165
IDR: 147245165 | УДК: 94(410):283/289 | DOI: 10.17072/2219-3111-2018-2-21-30
Текст научной статьи Протестантская культура и охота на ведьм в Шотландии: вокруг образа зла
Представления о зле заложены в фундамент каждой этической системы, они формируют матрицу, в пределах которой обеспечивается саморегуляция общества. Понимание зла определяет стратегии противодействия ему, от бытовых суеверий до моделей судопроизводства. Метафизическое зло – умозрительное понятие, требующее одушевления, наполнения сопряженными с человеческим опытом смыслами, известного фигуративизма. Персонификацией самых разных аспектов зла на протяжении полутора тысячелетий христианской истории служил дьявол – «старый хитрый змей, что, будучи духом, легко замечает наши чувства и приспосабливается к ним, чтобы сбить нас с толку вплоть до опустошения» ( James VI , 2000, p. 371).
Однако значение, придаваемое дьяволу в развитой христианской культуре, несопоставимо с его собственно библейской репрезентацией. При нарочитом библицизме протестантской церкви Шотландии один из центральных символов, которыми она оперировала, дьявол, практически не упоминается в Библии. По большому счету, массивное здание кальвинистской дьявологии основывается всего лишь на нескольких упоминаниях дьявола в Священном писании1. Библейский дьявол – не столько имя верховного демона, сколько комплексное понятие, обозначающее в зависимости от контекста абсолютное зло, повелителя ада, предводителя нечистых духов либо незаурядного и просто дурного человека. Тем не менее в ходе конфессионализации во второй половине XVI – первой половине XVII в. дьявол стал не только мистическим символом, но и важнейшей идеологемой. В полемике с католической традицией протестантские проповедники настаивали на греховной природе человека и неизбежности дьявольского искушения, постепенно стирая грань между сверхъестественным злом и человеческими слабостями.
Разгоревшаяся в раннее Новое время религиозная полемика, концентрируясь вокруг образа дьявола и его слуг, исторически обусловила охоту на ведьм в Шотландии. Угроза, якобы исходящая от тайного союза ведьм, стала эффективным инструментом пропаганды и социального контро-
ля, применявшимся церковными и светскими институциями на протяжении столетия. В силу категоричности оппозиции божественное – дьявольское была не только возвращена стабильность поколебленным реформацией стереотипам, но и уничтожена нейтральность человеческого мира, что привело к неизбежной вовлеченности обывателя в борьбу мировых первоначал.
Историография шотландской дьявологии достаточно обширна, мы остановимся лишь на нескольких персоналиях. Наиболее детально проблему репрезентации дьявола разработал Джеффри Рассел, автор фундаментального исследования различных его эманаций (Сатаны, Люцифера, Мефистофеля), превалировавших на разных этапах европейской истории [ Рассел , 2002, с. 42]. Питер Максвелл-Стюарт проследил влияние властных практик на развитие концепции зла [ Maxwell-Stuart , 2001]. Кристина Ларнер, опубликовавшая монографию «Враги Бога: охота на ведьм в Шотландии», внесла существенный вклад в исследование шотландской дьявологии в контексте истории охоты на ведьм [ Larner , 1981]. Как полагает автор монографии «Сатана и шотландцы», а также ряда посвященных теневой религиозности статей, Мишель Д. Брок, «лебединая песня дьявола» была спета именно в Шотландии, где пристрастное отношение к нему сохранилось дольше, чем в остальной Европе [ Brock , 2016, p. 4]. По ее мнению, образ сатаны как альтернативного субъекта власти способствовал формированию у шотландцев индивидуальной и коммунальной идентичности, чувства сопричастности, принадлежности к избранной нации, в нелегких условиях отстаивающей истинную веру.
В средневековом и новоевропейском богословии существовало две точки зрения на природу зла. Согласно первой, источником зла является князь тьмы, обладающий свободой действий в отношении людей; согласно второй, все, что ни происходит, предопределено Богом, вписано в его изначальный замысел, поэтому дьявол не способен на какие-либо действия без божественной воли и, соответственно, служит лишь средством ее претворения. Из этих толкований природы зла следует различное отношение к несчастьям: человек может быть искушаем дьяволом или караем Богом за грехи. Священное писание, особенно Ветхий Завет, изобилует рассказами о горестях, обрушивающихся на отдельных людей, их сообщества и человечество в целом. Однако источником всех этих бед является Бог, желающий испытать веру своих чад.
Дискуссия о том, субстанциональны ли зло и его повелитель дьявол, не прекращалась на протяжении полутора тысяч лет [ Махов , 2014, с. 121]. Различие в толковании концепции дьявола состоит в различном понимании степени его могущества и воплощенности в человеческом. Протестантское понимание природы зла изначально было ближе к мистической традиции, согласно которой зло, как и добро, – категория, не применимая к Богу. Однако задача распространения протестантизма требовала движения в сторону доступности, однозначности и узнаваемости его основ, в силу чего протестантское толкование метафизического и физического зла не преодолело границы общехристианской традиции, заложенной еще Августином. Протестанты не только не сняли вопроса о субстанциональности зла, но и предельно обострили его в процессе дискуссии с католиками.
Дьявол выступал символом, объединяющим все отвратительные и вытесняемые качества и черты, разотождествления с которыми требовали церковные императивы. Логически развивая теорию божественной предестинации, протестантские богословы низводили дьявола до уровня «обезьяны», подражателя, действующего исключительно с божественного попущения. Поскольку дьявол есть чистое ничто, побороть его можно, своевременно обратившись к праведной жизни. Дьявол и его агенты-ведьмы интерпретировались как орудия в руках Бога2, что, впрочем, не означало, что их не следует искоренять: кальвинисты полагали, что, уничтожая ведьм, они исполняют Божью волю. Это положение обсуждают герои «Демонологии» Якова VI Стюарта:
Филомат: Тогда кто может быть свободен от этих дьявольских практик?
Эпистемон: Никто не может предугадать, насколько имеет гарантию от безнаказанности по отношению к себе, ибо Бог простирает предопределение над всеми началами, кроме того, конкретные виды бедствий есть удел каждого человека, которые он [Бог] велит испытать в надлежащее время. И все же разве мы не можем чего-то бояться больше того, что дьявол и его нечестивые инструменты могут быть снова обращены против нас, ибо ежедневная борьба против дьявола осуществляется сотнями других способов. И потому, как доблестный капитан боится никогда больше не принять участие в битве, и его целью не станет ни ревущей выстрел из пушки, ни резкий щелчок пистолета, даже хотя он не может быть уверен, что может быть неожиданно убит, так же мы долж- ны смело идти вперед в борьбе против дьявола без какого-либо существенного страха ни его редких вооружений, ни обычных [угроз], доказательство которых мы получаем ежедневно (James VI, 2000, p. 396–397).
В то же время дьявол воспринимался как вездесущий архивраг Бога и человека, ни на минуту не оставляющий своих зловещих замыслов по уничтожению мира. Так, Жан Кальвин в своих «Наставлениях» многократно величает дьявола князем тьмы, ловцом и властителем душ нестойких в вере христиан. «Всё это должно побуждать нас к непрестанной битве с дьяволом, именуемым повсюду в Писании супостатом Божьим и нашим … Если мы преданы, как подобает, Царству Христа, то должны вести непрестанную войну с тем, кто силится его уничтожить. Кроме того, если мы заботимся о своём спасении, то не можем иметь ни мира, ни перемирия с тем, кто постоянно стремится ему воспрепятствовать» ( Кальвин , 1997, с. 192).
Расцвет задействованного в статье дневникового жанра в Шотландии связан с ковенантским движением и гражданской войной 1644–1647 гг., побудившими участников и современников этих событий к их фиксации и осмыслению. Большинство авторов личных документов принадлежали к духовенству и членам их семей. Таким образом, данные исторические источники отражают репрезентацию дьявола относительно небольшой, но влиятельной группой населения Шотландии. Эмоциональный, проникнутый идеей морального выбора стиль их письма продиктован спецификой религиозной борьбы, под знаменем которой прошло почти столетие шотландской истории.
В ряду источников личного происхождения по истории Шотландии XVII в. дневник лэрда Александра Броди, представителя древней фамилии из Нэрна и Элгина (The diary of Alexander Brodie…, 1863). Парламентарий, член Генеральной ассамблеи, умеренный ковенантер Александр Броди оставил глубоко личный документ, в котором запечатлено приватное общение с Богом человека, без сомнения, чувствующего себя причастным к его промыслу. Этот документ, представляющий панораму чувств и переживаний шотландского обывателя, может послужить уникальным источником по проблеме религиозной пропаганды и антиведовской идеологии раннего Нового времени. Не менее ценен дневник сэра Арчибальда Джонстона, лорда Уористона – человека примечательной судьбы, одного из авторов Национального ковенанта 1638 г., религиозного фундаменталиста и юриста, лорда-адвоката, благодаря которому в идеологию ковенанта были интегрированы идеи су-прематии парламента и неприкосновенности частной собственности (Diary of Sir Archibald Johnston…, 1911). Лорд Уористон сыграл в шотландской истории выдающуюся роль, став олицетворением непримиримой борьбы за национальные идеалы и символом их крушения. Охватывающий самые насыщенные десятилетия шотландской истории дневник Уористона имеет особую ценность для исследований политической жизни и вместе с тем фиксирует интересующий нас аспект ментальной истории: автор дневника осознает свое исключительное положение, избранность Богом и особую близость к нему, отчего усиливается драматизм его отношений с дьяволом. Особенный интерес представляют личные документы Сэмюэля Резерфорда, пресвитерианского священника и тираноборца, оставившего обширную корреспонденцию, наводненную наставлениями в вере и образе жизни (The Letters of Samuel Rutherford, 1904). Переписка С. Резерфорда отражает богословское понимание концепции зла, а также демонстрирует любопытный пример отождествления дьявола с эго автора. Таким образом, специфика дневников и эпистоляриев позволяет обнаружить не просто личностное отношение к дьяволу, но и переживание его как бессменного антагониста на любом жизненном этапе.
Наиболее емко образ дьявола и его слуг представлен в демонологических трактатах раннего Нового времени, отражающих более высокий порядок знания о сверхъестественном. Ведущий исторический источник данной группы – опубликованный в 1597 г. диалогический трактат «Демонология» Якова VI Стюарта. Кроме того, традиционными источниками, посвященными концепции зла, служат разнообразные богословские сочинения, из которых наиболее значимыми для книжной культуры Шотландии были «Наставления в христианской вере» Жана Кальвина, наследие Джона Нокса, «Шотландское исповедание веры». Вместе с тем понимание дьявола безнадежно редуцировано малым количеством этнографического материала, отражающего низовую мифологию. Шотландское крестьянство, вероятно, оставалось в пределах традиционной системы координат, в которой эльфы могли причинить человеку значительно больший вред, чем дьявол со всеми своими демонами.
Мы рассмотрим три аспекта зла и дьявола как его персонификации: этос, гнозис и праксис. Этос дьявола – это ситуация нравственного выбора между добром и злом. Понятия «дьявол», «дьявольское» многократно упоминаются в ранней протестантской литературе с выраженным полемическим акцентом; дьявол представлен в ней как символ веками накопленных грехов. В сочинении «Месса – это идолатрия» отец протестантской церкви Шотландии Джон Нокс критикует практику поклонения святым, патетически вопрошая: «Что может быть еще боле дьявольским?» ( Knox, A Vindication…, 1846, p. 40). Учение о сатане было признано частью «религии Христа», а церемонии, обеты, вера в святых и месса – происками сатаны, оттесняющими истину. Так, убеждая жителей Ньюкасла и Бервика отказаться от католического обряда, Нокс предостерегает: «Бог лишил вас своей славы, и дьявол полностью завладел [вами]» ( Knox, An Epistle…, 1846, p. 11). С противоположной стороны религиозных баррикад сыпались аналогичные обвинения. Принявший католицизм шотландский полемист Николь Бёрн обличал своих оппонентов в св я зи с дьяволом: Мартин Лютер, согласно Бёрну, был плотским и духовным порождением князя тьмы [ McCrie , 1854, p. 324]. О Джоне Ноксе он сообщил, что тот едва не довел до смерти молодую женщину, явившись к ней «со своим господином сатаной и подобными ему черными мужчинами» [ Mullan , 2010, p. 121].
Как всякие идейные борцы, ранние протестанты были вынуждены придавать любому конфликту преувеличенное значение: не только убежденные католики, но и все грешники были причислены к воинству сатаны. Предполагалось, что их искушает неисчислимое множество демонов – по одному на каждый грех3. Человеческое естество представлялось мрачным обиталищем пороков, к которому дьявол как повелитель дольнего мира оказывался ближе, чем Бог. Развращенность человеческой природы сулила любому потомку Евы слабость перед дьяволом. 9 февраля 1637 г. Сэмюэль Резерфорд пишет об этом Роберту Гордону: «Искушения, которые, как я предполагал, были уничтожены и повержены, снова возрождаются и оживают. Да, я вижу, что, пока я жив, искушения не умрут. Дьявол, кажется, кичится и хвалится, как будто у него больше прав на меня, чем у Христа, и как будто он заколдовал и проклял мое служение, так что я более не принесу пользы людям» (The Letters of Samuel Rutherford, 1904, p. 144). Дьявол олицетворяет неприглядную сторону человеческой натуры, в первую очередь, разнообразные эгоистические устремления: «Человек обвиняет дьявола в своих грехах; но великий дьявол, домашний дьявол каждого, домовой дьявол, который кормится и покоится в груди каждого человека, вот тот идол, который убивает всех сам. О, благословенны те, кто может отречься от себя и ввести Христа в свои покои!» (Ibid., р. 390–391).
Охота на ведьм отчасти была формой сопротивления утрате божественного покровительства, ощущаемой двояко: как следствие, с одной стороны, доктрины предопределения, с другой – формирования естественнонаучных представлений о ходе вещей. Принятие божественной предестина-ции требовало принятия наличия зла, не имеющего статуса первоначала, но активно моделирующего человеческую жизнь. Переписка Сэмюэля Резерфорда демонстрирует евангелическое понимание дьявола как искусителя Христа. В письме Джанет Кеннеди он заявляет, что чем ближе человек к Богу, тем более активно его искушает дьявол: «Дьявол – всего лишь точильный камень, чтобы обострить веру и терпение праведных» (Ibid., p. 232). Резерфорд даже делает вывод о желательности дьявола: «Раз должен быть дьявол, что беспокоит нас, то предпочитаю яростного дьявола. Наш Господь знает, какой дьявол нам нужен: лучше, чтобы Сатана был в своей шкуре и был похож на самого себя» (Ibid., p. 113). Дневник лорда Уористона полон молитвенных обращений к Богу, в которых дьявол предстает его непременным антагонистом: «Господи, я прошу прощения и молюсь за тебя, как всегда, когда я молился о том, чтобы ты скорее пробудил разум мой внутренними страхами, а тело мое – внешними мучениями, имя мое – позором и клеветой, имущество мое – бедностью; Да, Господь, отлучай от меня все мирские блаженства и обременяй меня запредельными бедствиями, дабы проявились неизреченные страхи души моей, прежде чем ты оставишь меня на произвол, на тиранию дьявола и на скорбь предначертанного мне» (Diary of Sir Archibald Johnston, 1911, p. 113).
Запрет карнавальной культуры отрезал для пресвитериан доступные католикам пути преодоления страха смерти, сути сношений человека с дьяволом. Замыкая все переживания на библейской тематике, реформаторы повысили градус коллективной тревоги и напряжения. Чувство неизбежности нравственного выбора обострялось развитой эсхатологической традицией: богословы и демонологи сходились во мнении о том, что «пугающее засилье» ведьм4 является верным признаком надвигающегося конца времен. В записях Александра Броди читаем: «Грех ведовства и дьяволопо- клонства, торжествующего ныне, не может быть разоблачен и искуплен; Сатана установил свой престол среди нас» (The diary of Alexander Brodie, 1863, p. 276). М.Д. Брок отмечает, что в определенный период сатана стал вездесущим: он появляется в печатном слове, проповедях, судебных материалах, на улицах и в приватных изображениях [Brock, 2016, p. 21]. Согласно справедливому замечанию К. Ларнер, мы лучше знаем то, как новоевропейские крестьяне представляли себе дьявола, чем то, как они представляли себе Бога [Larner, 1981, p. 134]. Впрочем, это обусловлено психологически: абсолютное зло помыслить проще, чем абсолютное добро.
В общепринятом августинианском толковании дьявол имеет выраженный гностический аспект. Одна из его ипостасей – Люцифер – инициирует и символизирует нестабильность, изменчивость, низвержение порядка, переходное состояние, реинтеграцию. Его культурная функция – болезненный транзит от былого к наличному, нарушение равновесного состояния, обеспечение и сопровождение кризиса. В раннее Новое время мифологема дьявола олицетворяет переход от средневекового уклада к модерному через мучительные глубинные перемены. Люцифер имеет самостоятельную волю, сила же его предопределена Богом, и в этом смысле он олицетворяет свободу человека, сотворенного Богом, но произвольно распоряжающегося своими душой и телом.
Проживание связи человека с дьяволом порождало чувство заброшенности и обреченности, необходимости и невозможности противостоять его козням. Ярким примером религиозной экзальтации, навеянной осознанием вездесущности сил зла, является дневник Александра Броди, в котором мы читаем: «Между прочим, я желаю в этот день возложить на дьявола одержимость колдовством. О! Это печальный знак недовольства, когда Ты позволяешь ему обманывать, искушать и преуспевать, и его заметное торжество делает исход очевидным. Как будто Ты отверг то место, где стоит мой дом и живут его обитатели, отдав его во владение дьявола, какое утешение я могу иметь в нем? Разве я не сожалею? … Успех Сатаны, распространение греха, уничтожение стольких бессмертных душ? Даже там, где я живу, о чем это говорит мне? О, научи, научи, ради имени твоего! Открой еще больше и уничтожь, как уничтожаешь его дела. Пусть земля очистится и не будет отдана [дьяволу] ради твоего имени, и не возложи этот грех на меня или на дом моего отца, не дай ни повода к этому, ни нашего принятия этого» (The diary of Alexander Brodie, 1863, p. 259).
Новоевропейская вера в могущество дьявола ознаменовала начало процесса разочарования в могуществе Бога в физическом мире: дьявол, воспринимаемый одновременно буквально и метафорически, как бы заполнил собой пространство между религиозной и физикалистской картинами мира. Жан Боден напрямую связывает новые астрономические знания с дьявологией: «В природе мы видим немало удивительных вещей, полностью ускользающих от нашего понимания. Так, небесные тела пробегают за один день 245 791 444 лье; и мы откажем дьяволу в способности уносить человека за сотню или пару сотен лье от его дома?» (цит. по [ Махов , 2014, с. 95]). Дьявол не просто вписывается в представления о естественных законах мира, он в определенной степени и есть один из этих законов.
В европейской культуре было укоренено убеждение в том, что сатана, хотя и не обладает божественным могуществом, все же способен производить разнообразные трюки и превращения, мало отличимые от чудес Бога. Описывая всевозможные искушения, которым дьявол подвергает христианские души, богословы и демонологи неизменно делали ремарку об уготованной ему роли пересмешника. «Неудивительно, что дьявол может вводить в заблуждение наши чувства, ведь мы видим посредством общих доказательств, что простые жонглеры могут делать сотни вещей, кажущихся и нашим глазам, и нашим ушам не такими, какими эти вещи являются» (James VI, 2000, p. 386). Владея искусством предсказания, дьявол не имеет представления о провидении: «Дьявол предсказывает грядущее, это правда, что он узнает все будущее, но пока он знает только часть, трагедия этой истории гласит (которую никак не мог предвидеть ум женщины), что у него нет каких-либо предсказаний, которые присущи лишь Богу» (Ibid., p. 385).
Этот тезис заметно повлиял на дискуссию о природе ведовства: одних авторов, среди которых был Иоганн Вейер и его школа, он побуждал видеть в ведьмах достойных сочувствия жертв дьявольского наваждения, других – безжалостно карать поддавшихся искушению грешников. В числе последних был и Александр Броди. На заседании комиссии 1 мая 1663 г. возник спор о том, нужно ли присуждать смертную казнь одной из обвиненных. Броди так аргументирует свою позицию по этому вопросу: «Я хочу быть тронутым человеческими чувствами к тем жалким созданиям, и оплакивать их грех и горе. Но я не могу пойти против замысла Божьего и Его святости, достойной Его, ни вечности и Его справедливости и праведности» (The diary of Alexander Brodie…, 1863, p. 296). Тогда же он сделал следующую запись: «Я читал показания ведьм из Парка; дьявол вводит в заблуждение глупых негодяев, используя их воображение, заставляя их воспринимать и верить фальши, обманывая поддельными удовольствиями и выгодой, и не может совершить ничего из того, что обещает…» (Ibid., p. 259).
Дьявол – персонификация изменчивости и непостоянства – наиболее опасных в средневековом понимании качеств. Дьявол не имеет постоянного облика, а посему может являться в образе человека, птицы, зверя, некоего голоса и даже неодушевленного предмета5. В процессе общения с человеком дьявол мог произвольно менять свой облик: согласно показаниям жительницы Ньютауна Джанет Ватсон, данным ею в 1661 г., дьявол явился к ней «в образе красивого мальчика в серых одеждах и спросил, сколько ей лет и какого рода удовлетворение он может ей принести. В это время дьявол оставил на ней свою отметку и ушел от нее в форме черной собаки» ( Pitcairn , 1833, p. 601).
Пока в христианской культуре доминировала средневековая концепция зла, дьявол мыслился как предельно непостоянная фигура, однако по мере создания новой мировоззренческой модели, в рамках которой перемены не всегда опасны и деструктивны, менялась и семантика зла. Переход от средневековой к новоевропейской культуре обусловили замену жеста и визуального ряда словом. Логоцентрическое понимание дьявола предполагает потерю его прежней полисемантичности, неоднородности, сравнительно блеклую иконографию. В пиковый период охоты на ведьм, в середине XVII в., дьявол принимает более универсальные, все чаще антропоморфные очертания. Развивать самостоятельную визуальную стилистику дьявола протестантской культуре Шотландии помешал и отказ от всякой духовной живописи и скульптуры.
К концу XVII в. вопрос о субстанциональности зла был снят с повестки дня: начав движение к сфере индивидуальных переживаний, дьявол окончательно переместился в область психического и утратил какое-либо физическое воплощение. В рамках националистического мировоззрения возникло представление о том, что демоны и дьявол – это безумие, т.е. болезнь, а не грех. В этой связи и ведьмы постепенно утратили облик опасных врагов Бога, трансформируясь в глазах современников в психически неполноценных индивидов.
Завершая разговор о гностическом аспекте дьявола, следует отметить, что он выполняет не только деструктивную, но и охранительную по отношению к божественному функцию. Из тезиса, согласно которому дьявол и демоны бестелесны и неуловимы, но повсеместны и реальны, как любая тень, следует вывод, что дьявол является непременным спутником Бога и всех его творений, он служит средством, при помощи которого определяется и познается божественное. «Я люблю Бога, насколько он достоин любви, настолько же я ненавижу тебя, о Сатана, так как ты достоин ненависти», – писал в дневнике лорд Уористон (Diary of Sir Archibald Johnston, 1911, p. 186).
Практический аспект зла реализуется через связь человека с дьяволом. Осознание угроз, которые несут темные силы, во многом определило особую атмосферу духовных и социальных практик раннего Нового времени. Именно связь с дьяволом, а не магия как таковая, была тем решающим обстоятельством, за которым следовала смертная казнь обвиняемых в ведовстве. В эссе «Сотвори себе врага» Умберто Эко пишет о том, что потребность во враге возникает в случае, когда группе требуется выработать собственную идентичность и испытать систему ценностей. Образ ведьмы в том виде, в котором он был создан к концу XVI в., был эталоном врага: во-первых, ведовством занимались преимущественно одинокие женщины, во-вторых, оставаясь членами общин, они часто занимали в них самое уязвимое положение, в-третьих, они не имели никакого эффективного инструмента защиты от правосудия [Эко, 2014, с. 14–17].
Рассуждения о связи человека с темными силами подчас доходили до гипотез об их полном взаимопроникновении. Томас Лодж, английский драматург и предполагаемый соавтор некоторых пьес Шекспира, в своем сочинении «Убожество разума и безумие мира: открытие воплощенного дьявола этого века» пришел к выводу о том, что наиболее подходящим олицетворением дьявола является сам человек ( Lodge , 1883, p. 28). Оксфордский библиотекарь Роберт Бёртон в 1596 г. опубликовал девятисотстраничный трактат «Анатомия меланхолии», в котором содержатся следующие мысли: «И что еще хуже, как если бы нам не достаточно было недовольств и страданий: homo homini daemon est, мы терзаем, преследуем и учимся причинять боль, уязвлять и досаждать друг другу взаимной ненавистью, оскорблениями, обидами; охотясь и пожирая не хуже хищных птиц; и подобно жонглерам, сводням, проституткам обманывая друг друга; или беснуясь, подобно волкам, тиграм и дьяволам, мы с удовольствием мучаем друг друга; люди дурны, грешны, злонамеренны, коварны и ничтожны, не любят друг друга или любят себя, не гостеприимны, не милосердны, не общительны, как должно, а фальшивы, лицемерны, двуличны, все во имя своих собственных целей; безжалостны, беспощадны, и, чтобы извлечь пользу для себя, они не заботятся о том, какую беду они причиняют другим» ( Burton , 1883, p. 109). Стремление избавить себя и других от уродливых качеств человеческой натуры, которые обыкновенно обозначались словом «devilry» («дьявольщина»), знаменовало переход к новому, прогрессистскому стилю мышления. В итоге к XVIII в. впечатляющие человеческие черты дьявола сменились его клиническим или сугубо метафорическим прочтением, окончательно превратившим его в художественную аллегорию безумия.
Праксис дьявола также подразумевает неконтролируемое либидо. В христианской культуре дьявол ассоциировался с репродуктивной сферой: дьявол в облике змея искушает Еву, он является по ночам как суккуб или инкуб, управляет мужской силой, покровительствует повивальным бабкам, вступает в интимный контакт с ведьмами и т.д. Присутствуя в большинстве религиозных наставлений и проповедей, фигура дьявола выполняет функцию эвфемизма, скрывая вытесненную из лексикона сексуальность. Дьявол противостоит Богу как меньший властитель, альтернатива низшего порядка, неконтролируемый центр удовольствия, указывая на типичную для мужчины угрозу раздвоенности. Дьявол занимает уникальное положение в священной иерархии и топологии: будучи вторым после Бога, обладая властью, хотя и неполной, из глубин ада он бросает вызов своему создателю. По этой причине двойственно само восприятие дьявола: с одной стороны, он олицетворяет грех и порок, с другой – активную репродуктивную силу и обновление.
В «Шотландское исповедание веры» 1560 г. интегрирована средневековая идея антагонизма души, преданной Богу, и тела, отданного на откуп дьяволу. Любые телесные удовольствия означены как дьявольские, за ними следует покаяние или расплата: «…Дух Бога, который свидетельствует нашему духу, что мы дети Божьи, заставляет нас противиться грязным удовольствиям и стенать в присутствии Божьем об освобождении от этих уз развращения; и в конце дает восторжествовать над грехом, так что он не царит больше в наших смертных телах» (Шотландское исповедание веры). Дьявол задает характерный ритм взаимодействия с человеком, используя череду подъемов, проникновений и падений, он воспроизведен даже в тексте «Исповедания»: «Эта борьба не ведома плотским людям, лишенным Божьего Духа, они следуют и подчиняются греху с жадностью и без раскаяния, даже когда Дьявол и их развратные похоти терзают их. Но сыны Божьи (как сказано прежде) бьются с грехом, рыдают и скорбят, когда они видят себя соблазненными до порока; и если они падают, они поднимаются снова с искренним и неподдельным раскаянием» (Там же). В «Исповедании» проводится четкая черта между покорившимися дьяволу грешниками, обреченными на вечный адский огонь, и праведными приверженцами Христа, которым уготован рай.
Рассмотренные частные документы отражают три разных варианта понимания дьявола. Александр Броди как комиссионер по делам о ведовстве демонстрирует наиболее буквальное восприятие дьявола – повелителя ада и господина всех ведьм, уничтожение которых есть цель любого ревностного христианина. В дневнике лорда Уористона правовое сознание смыкается с позднесредневековой оккультной традицией, усвоенной им через сочинения демонолога Уильяма Перкинса. Уористону близка фаустовская концепция Люцифера – как проводника в сверхъестественный мир, заключающего демонический пакт искусителя грешников. Сэмюэль Резерфорд, рассуждая о домашнем дьяволе, в религиозно-мистическом ключе интерпретирует человеческую личность.
В период становления пресвитерианской церкви мифологема дьявола выполняла важнейшую функцию – определяла структуру религиозных и моральных представлений. Дьявол, обозначаемый как враг Бога, повелитель католиков или ведьм, был той твердой почвой, от которой можно было оттолкнуться в любой проповеди или памфлете. Выбрав дьявола в качестве основного противника, религиозные лидеры создали предпосылки охоты на ведьм здесь и сейчас: механизм преследований мог быть неожиданно запущен по отношению к любому члену сообщества. Некромантия и магия как своеобразные формы вольнодумства грамотных сословий уступили место ведовству и колдовству как признаку социальной отверженности и уязвимости.
В XVI – начале XVII в. по мере развития национальных государственных институтов в Шотландии колдовство и ведовство обрели статус государственно значимого явления, стали симптомом общественной дестабилизации, подверглись десакрализации, все меньше занимая мистиков и оккультистов. Одновременно происходило создание так называемой популярной дьявологии, подогревшей интерес широких слоев населения Шотландии к альтернативной религиозности. Конечно, ни церковная, ни светская идеология не могла изменить качество человеческих взаимоотношений, но они предложили инструментарий, посредством которого большинство смогло вытеснить меньшинство за пределы психологически, а иногда и физически приемлемого существования.
Список литературы Протестантская культура и охота на ведьм в Шотландии: вокруг образа зла
- Brock M. D. Satan and the Scots: The Devil in Post-Reformation Scotland. 1560-1700. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. 247 p
- Lamer Ch. Enemies of God: The Witch Hunt in Scotland. London: Johns Hopkins University Press, 1981.244 p
- Maxwell-Stuart P.G. Satan's Conspiracy: Magic and Witchcraft in Sixteenth-century Scotland. Toronto: Dundurn Press Ltd., 2001. 255 p
- McCrie T. The Life of John Knox. London: H.G. Bohn, 1854. 566 p
- Mullan D.J. Narratives of the Religious Self in Early-Modern Scotland. Aldershot: Ashgate, 2010. 441 p
- ЛотманЮ.М. Об «Оде, выбранной из Иова» // Изв. АН СССР. Сер. лит-ры и языка. 1983. Т. 42, № 3. С. 253 - 262
- Махов А.Е. Hortus Daemonum: Словарь инфернальной мифологии Средневековья и Возрождения. М.: Intrada, 2014. 336 с
- Рассел Дж. Мефистофель. Дьявол в современном мире. М.: Евразия, 2002. 447 с
- Эко У. Сотвори себе врага. И другие тексты по случаю. М.: АСТ, 2014. 330 с