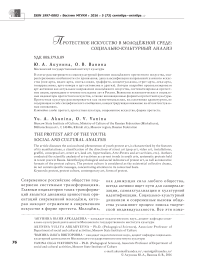Протестное искусство в молодёжной среде: социально-культурный анализ
Автор: Акунина Ю.А., Ванина О.В.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Философия культуры
Статья в выпуске: 5 (73), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается социокультурный феномен молодёжного протестного искусства, охарактеризованы особенности его проявления, дана классификация направлений уличного искусства (поп-арта, видео-арта, инсталляции, граффити, концептуализма, стрит-арта, ленд-арта, гиперреализма, арте-повера и арт-активизма и других). Авторы подробно проанализировали арт-активизм как актуальное направление молодёжного искусства, систематизировали протестные акции, прошедшие в течение последних лет в России. Выявлены психологические и социальные индикаторы протестного искусства, а также инновационные форматы протестной культуры. Протестная культура рассматривается как экзистенциальная, коллективная драматургия, не содержащая в себе специфического сообщения, концентрирующая внимание на её контекстуальных основаниях.
Протест, протестная культура, современное искусство, формы протеста
Короткий адрес: https://sciup.org/144161047
IDR: 144161047 | УДК: 008:379.8.09
Текст научной статьи Протестное искусство в молодёжной среде: социально-культурный анализ
Современное российское общество подвержено системным трансформациям. Главным индикатором таких трансформаций является динамика ценностных ориентаций современной молодёжи, которая находит отражение в современном искусстве в форме протеста. Молодёжь, как движущая сила любого общества, всегда активно ищет пути для самореализации, самоактуализации и культурной идентификации. Социально-культурный динамизм и современные вызовы общества усложняют процесс поиска творческой индивидуальности. Все эти изме-
-
1АКУНИНА ЮЛИЯ АРКАДЬЕВНА – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-культурной деятельности Московского государственного института культуры
AKUNINA YULIYA ARKADYEVNA – Ph.D. (Pedagogical Sciences), Associate Professor of Department of social and cultural activities, Moscow State Institute of Culture
-
2ВАНИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальнокультурной деятельности Московского государственного института культуры
76 VANINA OLGA VIKTOROVNA – Ph.D. (Pedagogical Sciences), Associate Professor of Department of social and cultural activities, Moscow State Institute of Culture
нения нашли отражение в современном искусстве, в идеологии которого воплотились основные принципы постмодернизма. Произошла переориентация изобразительного акцента: от принципа «мимесиса» в творчестве (подражания реальности) к принципу «пойесиса» (созданию новых реальностей). В современном искусстве стали стираться границы отличий от объектов «не-искусства», и произведением искусства может стать всё, что угодно, любой предмет и объект, при условии, что он должен быть публично выставлен или информация о нём должна получить огласку в СМИ.
Сегодня искусство транслирует коллективное и социально ангажированное творчество, взаимосвязанное с политическими изменениями в обществе, превращаясь в инструмент групповой мобилизации и протеста [6].
Актуальными направлениями современного творчества являются:
-
• перформанс («искусство действия» – заранее режиссированные ради какой-либо цели действия, осуществляющиеся перед случайно собравшейся аудиторией);
-
• хеппенинг (художественная ситуация, создающаяся автором, основана на импровизации и активном вовлечении зрителей);
-
• поп-арт (заимствованные из массовой культуры образы, помещённые в новый контекст реальности и приобретающие инновационное смысловое «звучание»);
-
• видео-арт (медиавизуальные произведения искусства, создающиеся с помощью современных информационных технологий, включающих видеоряд, сюжет, монтаж, спецэффекты);
-
• инсталляция (арт-объект, состоящий из разнородных элементов, совмещённых в едином художественном произведении);
-
• граффити (рисунки, нанесённые с помощью аэрозольной краски на архитек-
- турные строения, транспорт и другие городские объекты);
-
• стрит-арт (пост-граффити) – урбанистическое современное изобразительное искусство;
-
• концептуализм (идея в данном направлении приоритетнее, чем сама форма искусства, а художественное произведение состоит из разнообразных структурных компонентов: жестов, схем, графиков);
-
• боди-арт (в качестве «художественного полотна» произведения выступает человеческое тело – как средство изобразительного выражения);
-
• ленд-арт (природная среда является художественным материалом для авторского искусства);
-
• гиперреализм (техника живописи, при которой художник уделяет внимание деталям сюжета картины, стараясь придать им сходство с фотографией);
-
• арте-повера, или «бедное искусство» (применение в художественном творчестве нетипичных материалов – металла, неона, бумаги, пластмассы, проводов и т.д.).
В особое направление молодёжного протеста можно выделить арт-активизм . Это искусство направлено на модернизацию общества, согласно арт-активизму, сущность человека заключается не в созерцании, а в деятельном преобразовании внешнего мира с помощью средств искусства. При этом авторский отчёт в Интернете о протестных акциях, представляющий собой информационный «вброс» в медиасреду, цель которого – вызов ответной реакции с последующим обсуждением аудиторией, является основной его характеристикой [1].
Протестные настроения актуализируются в таких видах молодёжного современного искусства, как граффити (граффитчик Banksy); рэп (работы Noize MC, «Чёрная экономика», «Рыночные отношения»); социально-документальные ко- миксы (Виктория Ломаско), флешмобы, протестная поэзия («Лаборатория поэтического акционизма»); перформансы (арт-группа «Война», «Бомбилы»).
Лидирующей арт-группой «второй волны» политизированного протестного радикального московского акционизма до недавнего времени являлась «Война» – группа концептуального уличного искусства, которая экспериментировала не только в сфере искусства (исследуя его границы), но и в сферах политики (склоняя к совместным политическим действиям активистов, стоящих на противоположных политических позициях), медиа («вбрасывая» противоречивые и ложные толкования собственной деятельности ради провокации дискуссий) и образа жизни. Группа противостояла художественной и политической системам, действуя на их символическое уничтожение в жанре художественно-политической деятельности. Их основное кредо – «вынос искусства из галерей на улицу». В 2011 году «Война» стала «титульной» российской арт-группой, получив, по решению авторитетного международного жюри, главную государственную премию в области современного искусства «Инновация».
Более подробно рассмотрим виды молодёжного протеста в современном искусстве, такие как:
-
• граффити-протест – вид уличного искусства, представляющий собой рисунки или надписи, нарисованные краской на стенах и других поверхностях. Одним из представителей данного вида искусства является Banksy (английский андергра-ундный художник граффити, режиссёр и политический активист), который характеризует своё творчество прежде всего как диалог с публикой;
-
• рэп – музыкальный вид протеста, представляющий собой рэп-ритмичный и мелодичный речитатив, отражающий критиче-
- ское отношение к действительности и злободневность (активным «протестующим» можно считать рэпера Noize MC, в творчестве которого отчётливо прослеживается социальная тема, рассматриваются значительные проблемы, существующие в обществе);
-
• поэтический протест, чётко прослеживающийся в «Лаборатории поэтического акционизма» – объединении поэтов, художников и философов, которые насыщают городское пространство акциони-стской поэзией, нацеленной на уличные акции прямого действия, трансформирующие городскую среду, и которые осуществляют интервенции в различные закрытые помещения (такие как галерея, супермаркет);
-
• акционизм – репрезентативный вид contemporary art, искусства художественных акций, основанных на идее процес-суальности, предполагающей смещение акцента с результата творчества на собственно процесс создания художественного произведения [10]. Первые акции в этом жанре были проведены представителями дадаизма и сюрреализма ещё в первой четверти ХХ века, но концептуальной завершённости искусства эта форма достигла к середине столетия, когда акционизм вышел за пределы творческих мастерских, а художественный процесс преобразился в театрализованное действие для приглашённых зрителей, принадлежащих в основном миру искусства (чаще всего это были критики, художники, журналисты, галеристы).
Размытие границ между изобразительным театром, творчеством и жизнью создаёт не только особую сферу культуры и направление в современном искусстве, но и открывает его широкой публике, так как в художественное действие оказываются вовлечёнными не только подготовленные зрители, но и случайные сви- детели. Наиболее впечатляющим хеппенингом стала акция Дж. Кейджа «4.33», когда 4 минуты 33 секунды, под нарастающий недоуменный ропот, раздающийся со стороны публики, исполнитель сидел за клавиатурой рояля, не касаясь её и превращая каждого из слушателей в участника гигантского оркестра, исполняющего «музыку шумов», которая при каждом исполнении «звучала» иначе.
На активное взаимодействие с публикой были рассчитаны и провокативные перформансы международного движения «Флуксус», в которых тела людей становились неотъемлемой составляющей художественных акций, в данном случае это могло быть как тело самого художника, так и его моделей (разновидность акционизма – боди-арт, или искусство тела). Так, «Антропометрии» И. Кляйна представляют собой отпечатки тел натурщиц, на которые была предварительно нанесена краска синего цвета. При этом зритель может выступать в качестве соавтора, например, он может по своему усмотрению менять местами различные части инсталляции, выполнять роль холста или выступать в качестве элемента произведения (например, «Белые холсты» Р. Раушенберга представляют собой холсты, выкрашенные в белый цвет и освещённые таким образом, что на их поверхность падают тени от зрителей, которые беспрерывно скользят по ней, придавая произведению динамизм и включая тело зрителя в сюжет самого произведения).
Стрит-арт [3] – это современное уличное искусство, искусство отчуждённых, преодолевающих это отчуждение в привычной им городской среде, главной чертой этого искусства является направленность на прямой диалог со средой и зрителем.
Среди факторов возникновения этих форм молодёжного протеста: высокая степень личностного отчуждения на фоне роста индивидуализма при тотальном господстве массовой культуры (чем сильнее отчуждение, тем интенсивнее единичные ответные импульсы его преодоления); стремление к индивидуальному самовыражению как значимой культурной ценности, когда рост индивидуализма коррелирует с пессимистическими настроениями в обществе. Третий фактор – это агрессивное воздействие рекламы и средств массовой информации, создающее значительное количество людей, интуитивно компетентных в плане оценки и создания образов и текстов для массового восприятия. Современный человек, сталкиваясь с рекламой в больших количествах с раннего детства, начинает разбираться в том, как устроен и как работает рекламный образ, что нужно сделать, чтобы образ начал работать против ожидаемого результата. В переходе от протестных граффити к художественному высказыванию стрит-арта эти факторы играют ключевую роль.
Основной формой уличного искусства называют протест, который представляет собой обычно довольно простое сообщение: либо выражение непринятия («мы против А»), либо отрицание (вместо А – не А). В стрит-арте, скорее, отражается рефлексия на современные реалии, а не ненависть.
Содержательная сторона сообщений стрит-арта очень часто характеризует не только эмоциональную реакцию художника на что-либо, но и рациональные критические взгляды как самого художника, так и других авторов (философов, политиков, общественных деятелей) на объективную реальность. При этом протест переходит в мотивационную сферу, приводя к усложнению самого сообщения (например, к возникновению мотивирующего стрит-арта, выступающего не против, а «за», так, Бэнкси взял баллончик с кра- ской, чтобы вернуть этот мир, «присвоить» его себе снова).
Прагматические нотки в стрит-арте возникают гораздо позже и актуализируются в таком явлении, как «партизанинг», ориентированном на улучшение комфортности жизни в городской среде и мало связанном с эстетикой (например, самостоятельное изменение разметки на дороге, создание удобных указателей и ориентиров и т.п.).
Таким образом, определяющей чертой стрит-арта является не столько эстетическое содержание, сколько психосоциальное значение этого феномена. В данном случае эстетический аспект оказывается средством отчуждённого субъекта и используется не только для символического захвата городских пространств, но и для реализации аффективных импульсов. Иными словами, протест – это не только нарушение социальных, юридических, моральных границ, но и чувства, эмоции, телесное самоощущение субъекта.
Стрит-арт, в отличие от граффити, представляет собой довольно сложное сообщение, текст, а не просто жест (пустой знак протеста или перформативное утверждения своего Я ), это не просто субъект, а субъект, артикулирующий себя, свою жизненную позицию. Стрит-арт концептуален, но при этом не нуждается в дополнительном обосновании (от зрителя, художника, критика).
Например, известный российский уличный художник «Паша 183» во всех своих интервью подчёркивал, что для него главное в творчестве – делиться какими-то мыслями и высказываниями с другими, при этом используя различные художественно-изобразительные средства: от граффити до уличных скульптур и сложных технических устройств.
В рассмотрении проблемы протеста средствами искусства следует вспомнить про такой историко-культурный феномен, как вандализм, который начинается не с разрушения материальных памятников культуры, а с разрушения человеческой нравственности. Чтобы прийти к разрушению культуры, необходимо пройти длительный психологический и этический путь надлома и разрушения духовных ценностей [2].
Фундаментом вандализма является антикультура, воспринимаемая как акт отрицания существующей культуры.
Вандализм никогда не создаёт нового, его цель – уничтожение. Идеи вандализма – это идеи протеста.
С психологической точки зрения вандализм даёт возможность компенсировать неудачи в реализации личностного не совсем удачного элитологического проекта. Кто-то возвеличивается посредством своего творчества, а кто-то – за счёт насильственного уничтожения этих результатов.
Вандализм делит культурные ценности на «свои» и «чужие» и к чужим относится глубоко враждебно. В вандализме крайне важен сам процесс разрушения. Именно творческое бессилие толкает на акт вандализма, но при этом дарует вандалу сопричастность к авторству разрушаемого произведения искусства.
Не так давно мы наблюдали яркое проявление вандализма, когда группа активистов радикального околоправославного движения «Божья воля» под руководством Дмитрия Энтео (Цорионова), которое известно рядом эпатажных акций, направленных, по мнению самих активистов, на защиту православных ценностей, устроила акцию протеста и разбила на выставке «Скульптуры, которых мы не видим» несколько экспонатов. Активисты заявили, что выставляемые скульптуры оскорбляют чувства верующих, после чего начали их разбивать. Посетители выставки пытались их остановить, но безуспешно.
Выставка «Скульптуры, которых мы не видим» представляет собой работы советских художников-подпольщиков 1960– 1970-х годов, создававших свои произведения в параллель официальному искусству. В экспозиции были представлены более 300 произведений, авторами которых являются Вадим Сидура, Владимир Лемпорт, Николай Силис.
Уличный протест в России актуализировался в декабре 2011 года после парламентских выборов и не может не рассматриваться как отражение объективной политической реальности. Уличный протест придаёт динамику российскому политическому процессу. Постепенный спад протестной активности, разумеется, породил разочарование в протестном движении, вызвав справедливые вопросы к его консолидации и управляемости.
Многие до сих пор остаются на стороне протестующих и, несмотря на достаточно сильную регламентацию со стороны власти, готовы изобретать инновационные креативные формы воздействия на неё. Но существуют и творческие способы организации привлечения внимания гражданского общества к политическим проблемам.
Например, культурные продукты арт-группы «23:59» [5] позволяют увидеть связь с литературными текстами, отсылающими к сопротивлению. За недолгий период своего существования арт-группа провела более 20 акций, представляющих собой разнообразные формы политического арт-выражения, в которых акцент сделан на отсылки к литературным текстам.
По мнению многих исследователей, подобные отсылки могут выглядеть обоснованными, так как именно протестная сфера искусства привлекает оппозицион- ный потенциал и лежит в основе любой протестной акции.
Все протесты «23:59» анонсировала в специально созданной под протестное движение группе в социальных сетях. Именно конкретный литературный текст должен был подготовить зрителя для восприятия акции. Так, эксперименты с формой можно наблюдать в хеппенинге «Гномы» (25.03.2012), который арт-группа провела зимой на снежном склоне Парка 40-летия Октября в Ельце, во время которого телами участников было выложено слово «НАТЕ», а потом на этом же месте были зажжены свечи. В организации акции были задействованы 12 человек, а её соучастниками стали многие автомобилисты, проезжавшие по одной из ключевых магистралей города. По словам участников хеппенинга, данная форма протеста – продолжение уличной политики, означающей переход к тактике мелких культурных провокаций. Что касается литературной параллели, то ею стало стихотворение Владимира Маяковского «Нате» (в переводе с английского языка «Нате» означает «ненависть»). Безусловно, акционисты из «23:59» знали семантические интерпретации его названия.
Такие акции обусловлены не только литературными текстами, в которых следует искать объяснительную схему, но и развивают традицию театрализации протеста. Уличный протест представляет собой яркое нестандартное событие, а театрализация добавляет ему масштабности, эффекта и привлекательности.
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что для протестной культуры свойственна экзистенциальность, коллективная драматургия, для которой реальная трансформация ситуации воспринимается как маловероятная. Для представителей арт-активизма периоды неучастия в различных акциях воспринимаются как недостаточность, которая компенсируется включением в активную протестную деятельность, способствующую интеграции в общество. Специфика художественных акций заключается в том, что истинная художественная акция не должна содержать в себе специфического сообщения, так как основная задача её – фиксация внимания на её контексте [11].
Протест в искусстве выполняет консолидирующую функцию, акцентируя общественное внимание на проблеме, подталкивая социум на размышление и способствуя самоактуализации личности деятелей данного направления в искусстве.
Итак, современную протестную культуру молодёжи в России можно охарактеризовать как активно развивающуюся систему убеждений, направленных на улучшение социокультурной ситуации в стране. Для неё свойственно применение широкого инструментария протестных информационных технологий, консолиди-рованность оппозиционных групп, идеологическая однородность, сформирован-ность «ядра» оппозиции, представляющего небольшое и устойчивое сообщество, которое занято протестной политической деятельностью на полупрофессиональной или профессиональной основе.
Список литературы Протестное искусство в молодёжной среде: социально-культурный анализ
- Акунина Ю.А. Арт-активизм как актуальная форма протеста: социокультурный анализ // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2014. № 1 (57). С. 79-85.
- Карабущенко П. Л. Вандализм как культурно-исторический феномен // Гуманитарные исследования. 2011. № 4 (40). С. 12-21.
- Кудряшов И.С. Стрит-арт как феномен современной культуры: проблема генезиса и семиотические особенности сообщения // Критика и семиотика. 2014. № 2. С. 220-233.
- Рубекина И.В. Воспитательный потенциал театрализации // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. 2014. № 2 (13). С. 40-44.
- Скиперских А.В. Политические перформансы арт-группы «23:59» в дискурсе литературных текстов // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. 2014. № 2. С. 180-185.