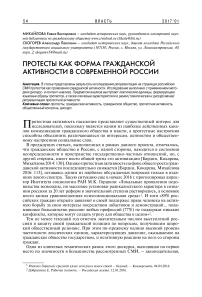Протесты как форма гражданской активности в современной России
Автор: Михайлова Елена Викторовна, Скогорев Александр Павлович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты исследования репрезентации на страницах российских СМИ протестов как проявления гражданской активности. Исследование выполнено с применением методики дискурс- и контент-анализа. Предметом анализа выступают лексические единицы, формирующие языковые образы протестов, а также ключевые характеристики и рамки (тематическая и дискурсивная) репрезентации протестной активности.
Протесты, гражданская активность, гражданское общество, протестная активность, общественный контроль, дискурс
Короткий адрес: https://sciup.org/170168594
IDR: 170168594
Текст научной статьи Протесты как форма гражданской активности в современной России
П ротестная активность населения представляет существенный интерес для исследователей, поскольку является одним из наиболее действенных каналов коммуникации гражданского общества и власти, а протестные настроения способны объединить различающиеся по интересам, ценностям и общественному настроению социальные слои.
В предыдущих статьях, выполненных в рамках данного проекта, отмечалось, что гражданское общество в России, с одной стороны, находится в состоянии неопределенности в пространстве государственно-частных отношений, но, с другой стороны, имеет место общий тренд его активизации [Бардин, Кокарева, Михайлова 2014: 130]. Однако протестная активность на фоне общего роста гражданской активности последовательно снижается [Бардин, Кокарева, Михайлова 2016: 113], оставаясь одним из наиболее обсуждаемых вопросов только в изданиях левого спектра. Такую ситуацию еще в начале 2016 г. прогнозировал директор Института социологии РАН М.К. Горшков: «Локальные проявления недовольства возможны, но массовые установки радикалистского характера в сознании россиян за 20 лет реформ в значительной степени растворились, а основное место заняла уравновешенная психоэмоциональная среда»1. И хотя «89% российских граждан открыто заявляют о своей поддержке права человека на активную борьбу за свои интересы посредством забастовок и демонстраций… подавляющее большинство россиян любых профессий (77%) не поддержат никакие конфликты, которые могут создать угрозу для общества в целом»2.
Тем не менее текущий год отмечен значительным числом выступлений россиян в защиту своей гражданской позиции по вопросам, получившим широкий общественный резонанс. При этом по-прежнему налицо высокий уровень частотности лексических единиц, характеризующих давление, оказываемое на гражданское общество государством, и негативную реакцию на него со стороны граждан.
Одна из ключевых тематических рамок этого дискурса, выходящая на первое место по значимости в большинстве рассмотренных СМИ, – законодательная, связанная с законом об иностранных агентах1 и с вызвавшим резко негативную реакцию различных институтов, групп и отдельных граждан пакетом «антитер-рористических» законов Озерова–Яровой2, применение которых, по оценке Общества защиты Интернета, грозит уничтожением интернет-отрасли в России. Протестные митинги прошли в Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Кургане, Казани, Волгограде и Санкт-Петербурге, а на сайте change.org против них подписались более 600 тыс. чел.3 В августе в столичном парке «Сокольники» прошел митинг против «пакета Яровой», участники которого заявили, что выступают «в защиту 23 и 24 статей Конституции, против интернет-цензуры и интернет-слежки, за свободу интернета в России»4.
Стоит отметить, что стремление власти взять под контроль протестную активность населения выражается не только в репрессивном законодательстве, но и в стремлении своевременно оценивать «протестный потенциал», накапливаемый в группах риска. Такая работа ведется в ряде российских вузов. По ее итогам составляются справки «для служебного пользования» органов государственной власти. Так, заместитель руководителя Института стратегических исследований и прогнозов при РУДН Никита Данюк отметил, что «на уровне профессорско-преподавательского состава не открыто, но и не стесняясь, происходит деструктивная пропаганда антигосударственных идей. По результатам ‹…› были составлены справки для служебного пользования – в том числе для представителей органов госвласти, а также определенных специализированных структур»5. Подобной практике противостоит критика «слева», согласно которой самой лучшей формой контроля за общественным протестом было бы не закручивание гаек, а как раз предоставление людям возможности этот протест мирно и безнаказанно выразить6.
Ужесточение законодательства заставило активистов искать другие, не запрещенные законом формы протеста, в частности одиночные пикеты, не требующие согласования. Так, в октябре в Москве около здания Государственной думы состоялась «акция отчаяния» (одиночный пикет) участников инициативной группы «Бездомный полк», состоящей из военнослужащих, не обеспеченных жильем вопреки указам президента РФ и нормам законодательства7.
В основном, подавив политические протесты, власти столкнулись со стихийными социальными протестами8, прежде всего связанными с условиями труда. За первые месяцы 2016 г. зафиксированы 132 случая трудовых протестов в 57 регионах (без учета Москвы и Санкт-Петербурга). Они приведены в исследовании экспертов Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) «Карта трудовых протестов в регионах РФ». По словам руководителя ЦЭПР Николая Миронова, по сравнению с серединой прошлого года трудовых протестов стало вдвое больше1.
Однако во властном дискурсе протестам уделено относительно немного внимания, при этом репрезентация носит лаконичный, нейтральный, информативный характер2 . Подобные сообщения в критическом дискурсе отличаются совсем другой лексикой и тональностью. В статье с «говорящим» названием «Зарплату выдавливают голодовкой» говорится: «Зарплату работники рыбокомбината “Островной” на Шикотане получили только после того, как смогли публично рассказать о вопиющей ситуации, сложившейся на предприятии, в ходе прямой линии Владимира Путина. В течение полугода они не получали заработанного, жили в ужасающих условиях3. …в ростовском Гуково около 100 бывших работников компании “Кингкоул” и членов их семей провели пикет, на котором заявили о возобновлении голодовки протеста… Участники акции заявили, что будут всеми мерами отстаивать свои права и добиваться социальной справедливости. Люди находятся в отчаянном положении»4.
Заметной составляющей протестной активности становится деятельность защитников животных, список требований которых заметно расширился и стал затрагивать организационные вопросы государственного масштаба. В ходе митинга зооактивистов в Москве одна из его участниц озвучила идею о назначении омбудсмена по защите животных ‹…› Участники митинга требовали гарантировать животным право на жизнь, обеспечить общественный контроль за работой приютов и ввести образовательные и просветительские программы гуманного отношения к животным в образовательных учреждениях5. Более 300 тыс. чел. подписали петицию, в которой сказано: «Мы требуем от законодателей доработать и ужесточить закон о жестоком обращении с животными»6.
Характерной чертой протестных выступлений социального характера в этом году стала консолидация протестующих. Так, дальнобойщики выбрали четырех координаторов – из Дагестана, Петербурга, Ульяновска и Волгограда, которые занялись созданием Всероссийской ассоциации дальнобойщиков. В нее уже вошли представители 58 регионов7. Весной в центре Москвы была проведена первая акция протеста против системы «Платон», неожиданно вылившаяся в предъявление жестких политических требований. Обвинив власти в нежелании идти на уступки, они призвали к отставке президента и правительства8. В августе полиция задержала дальнобойщиков, направлявшихся в Краснодар, чтобы поддержать участников тракторного марша9.
Если выступления дальнобойщиков стали самыми масштабными социальным протестами первой половины 2016 г. в регионах, то в столице сформировалась другая протестная группа – москвичи, недовольные градостроительной политикой чиновников. По сути, люди выступили против строительного лобби. В фокусе внимания оказались конфликты, связанные с прокладкой северо-восточной хорды по землям парка «Кусково», с уничтожением части объекта культурного наследия ради создания футбольных полей в парке Дружбы у Речного вокзала, с вырубкой сосновой рощи в районе Хорошево-Мневники ради возведения жилой высотки. Активисты собрали 140 тыс. подписей под петицией на имя генпрокурора, выдвинув весьма показательные лозунги: «Самоуправлением по самоуправству!», «Хотим дышать, а не задыхаться!», «Парку – да, стройке – нет!»
Одним из самых громких и затяжных стало противостояние в парке «Торфянка», где жители близлежащих домов выступили против строительства православного храмового комплекса1. В ходе противостояния группа защитников парка внутренне структурировалась: « есть четкое разделение на “силовой блок” – дежурных на блокпосте – и “интеллектуальный блок” – юристов, готовящих иски в суды… Есть группа интернет-активистов, которые ведут странички в соцсетях… Есть у протеста и спонсоры – жители из числа бизнесменов, которые жертвуют на содержание протестного лагеря»2.
К активистам «Торфянки» присоединились жители Тимирязевского района , к которым были применены технологии, отработанные властью на оппозицио-нерах3. В апреле на территории Тимирязевской академии начались митинги с протестами против массовой застройки опытных земель старейшего аграрного вуза4. Во время акций звучала жесткая критика власти: «жадность чиновников не имеет никаких границ, не подчиняется моральным принципам и не интересуется перспективами. Чиновники, вещая нам по телевидению о продовольственной безопасности страны, подрубают саму основу этой безопасности – подготовку квалифицированных кадров для сельского хозяйства»5.
Весной несколько протестных групп Юго-Западного округа Москвы объявили об объединении в движение «Комитет 42» (42-я статья российской Конституции гарантирует гражданам право на благоприятную окружающую среду). Это право грубо нарушается многочисленными проектами точечной застройки, при разработке которых мнение местных жителей игнорируется6.
Таким образом, в 2016 г. только в Москве против уплотнительной застройки и нанесения вреда окружающей среде активно выступили десятки тысяч человек. Формы протеста разные – от сбора подписей и участия в митингах до организации круглосуточного дежурства, перекрытия улиц и блокирования подъездов к стройкам. Подобные протесты – явление не новое. Но стоит отметить не только рост их числа, но и вовлечение все новых активистов, четко обозначившуюся тенденцию к самоорганизации.
Уровень протестной активности, ее влияние на общественно-политическую ситуацию в стране по-разному оценивается на страницах отобранных СМИ. Так, например, К. Мартынов пишет: «Все формы протеста объявлены нелегальными, а протестующие самим фактом появления на улице превращаются в “революционеров”»7. С другой стороны, как положительная сторона нынешнего кризиса подчеркивается ускорение процесса «самоорганизации общества и рост горизонтальных сетей взаимопомощи. Теперь мы можем ожидать усиление общественной солидарности и взаимовыручки»8.
В целом оценка протестной активности на страницах отобранных СМИ не выходит за рамки традиционного восприятия протестных движений, ассоцииру- ющихся с недовольством существующим социальным порядком. В них находит свое отражение степень «информированности и понимания людьми политических процессов и состояний» [Костюшев 2011: 153]. В этом контексте уместно вспомнить теорию американского социолога Д. Дэвиса о «революции растущих ожиданий», согласно которой политические протестные движения являются следствием спада экономического роста, стагнаций, когда рост экономических ожиданий граждан не соответствует их реальному экономическому положению. Результатом становится массовое недовольство граждан [Селле 2009: 373]. Диапазон его проявлений достаточно широк: от индивидуального и коллективного несогласия до открытого сопротивления и «бунтарских» выступлений представителей отдельных социальных групп и слоев против функционирующего политического режима [Касович 2014: 45].
Таким образом, несмотря на внешне спокойную и достаточно стабильную ситуацию, во многом достигнутую с помощью ужесточения законодательства, в российском обществе накапливается социальное напряжение и неудовлетворенность. Наиболее массовые выступления населения наблюдаются там, где ограничения или ущемление в правах касаются непосредственно жизни или интересов людей. Далеко не все граждане готовы активно включаться в протестные действия против новых законодательных актов, нарушения статей Конституции РФ. Но когда попираются их личные права, они протестуют, невзирая на существующие ограничения. Заслуживает внимания и то, что граждане выступают против следствия проблем, а не их причин, т.е. против уже проявленного нарушения их прав и интересов. Выступления против коррупции, неправомерных действий властей, административных барьеров, бюрократизма выглядят весьма незначительными на фоне остальных протестов.
Статья подготовлена при поддержке РГНФ (грант № 14-03-00262а «Динамика развития гражданского общества в современной России»).
Список литературы Протесты как форма гражданской активности в современной России
- Бардин А.Л., Кокарева А.Н., Михайлова Е.В. 2014. Гражданское общество в дискурсе российских СМИ. -Власть. № 12. С. 130-139
- Бардин А.Л., Кокарева А.Н., Михайлова Е.В. 2016. Гражданское общество в России: опыт сравнительного анализа. -Власть. № 1. С. 109-117
- Касович А.А. 2014. К вопросу об основных причинах политического протеста в современной России. -Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. № 1. С. 42-50
- Костюшев В.В. 2011. Социальный протест в поле политики: потенциал, репертуар, дискурс (опыт теоретической интерпретации и эмпирической верификации. -Полис. Политические исследования. № 4. С. 144-157
- Селле П. 2009. Когда происходят революции? -Теория и методы в современной политической науке: первая попытка теоретического синтеза. М.: РОСПЭН. С. 371-387