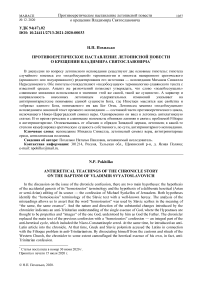Противоеретическое наставление летописной повести о крещении Владимира Святославовича
Автор: Похилько Н.П.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: Историческая филология
Статья в выпуске: 12, 2020 года.
Бесплатный доступ
В дискуссии по вопросу летописного исповедания существуют две основные гипотезы: гипотеза случайного генезиса его «подобосущной» терминологии и гипотеза намеренного еретического (арианского или полуарианского) редактирования его источника - исповедания Михаила Синкелла Иерусалимского. Обе гипотезы отождествляют «подобосущную» терминологию славянского текста с известной ересью. Анализ же разночтений позволяет утверждать, что слово «подобосоущьнъ» славянские книжники использовали в значении «той же самой, такой же сущности». А характер и направленность внесенных летописцем содержательных изменений указывает на антитринитаристское понимание единой сущности Бога, где Ипостаси мыслятся как свойства и«образы» единого Бога, понимаемого им как Бог Отец. Летописец заменил «подобосущным» исповеданием основной текст прежнего исповедания - составной части противоеретического цикла, включавшего Никео-Цареградский символ веры. Одновременно он ввел в летопись антилатинскую статью. В то время греческие и славянские полемисты обвиняли латинян в связи с проблемой Filioque в антитринитаризме. Отмежевываясь от обычаев и обрядов Западной церкви, летописец в какой-то степени камуфлировал еретическую сущность собственного, по сути, антитринитарного исповедания.Ключевые слова: исповедание Михаила Синкелла, летописный символ веры, антитринитарные ереси, антилатинская полемика.
Исповедание михаила синкелла, летописный символ веры, антитринитарные ереси, антилатинская полемика
Короткий адрес: https://sciup.org/14118236
IDR: 14118236 | УДК: 94(47).02 | DOI: 10.24411/2713-2021-2020-00033
Текст научной статьи Противоеретическое наставление летописной повести о крещении Владимира Святославовича
В летописной статье 988 г. за обращенными к новокрещенному князю Владимиру Святославичу словами «да не прельстять тебе нѣцѣи от еретикъ»1 следует предложение веровать согласно изложенному далее ряду исповеданий и наставлений. Первый текст в этом ряду — известный Никео-Цареградский символ веры, обозначенный вступительными словами «Вѣрую вь единого бога Отца вседержителя творца н е бу и земли». Его произносят и сегодня перед крещением во время обряда отречения от сатаны и сочетания с Христом (Арранц 1993: 67), он же звучит на каждой литургии перед анафорой. Второе исповедание, часто называемое летописным символом веры (далее — прил. 1. Летописный Орос) — редакция славянского перевода «Λίβελλος περὶ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως» Михаила Синкелла Иерусалимского в «подобосущной» версии, близкой тексту «Того же написание о вере» в составе Троицкого сборника № 12 и Великих Миней Четьих от 29 февраля (далее — Исповедание). Затем следует исповедание Семи вселенских соборов с указанием, где сходились святые отцы, в каком количестве, какие ереси и каких еретиков они анафематствовали, какое вероопределение утвердили (прил. 2). Четвертый текст — предостережение против учения латинян с изложением их «вин» и истории «развращения веры», которое и завершает корпус летописных наставлений.
В историографии релевантность заимствованных из разных источников исповеданий и поучений в контексте Корсунской повести о крещении князя Владимира впервые была поставлена под сомнение из-за очевидного анахронизма одного из них, а именно, антилатинской статьи (четвертый текст в нашем ряду), которую исследователи уверенно соотносят с полемикой двух Церквей второй половины XI в. (Попов 1875: 5—7, 16—17; Павлов 1878: 16—17, 26; Бармин 2006: 231—236). А.Н. Попов предложил считать ее и предшествующее ей «сказание» о Семи вселенских соборах позднейшими вставками в первоначальный рассказ, изначально включавший лишь Никео-Цареградский символ веры и Орос. А. Павлов же видел Орос, статью о Семи соборах и противолатинскую статью «неразрывными частями одного целого в историко-литературном смысле» произведения, составленным летописцем с одной целью — «показать и доказать неправославие латинян», названных чуть выше еретиками (Павлов 1878: 7). В то время интерпретации Ороса и последующей статьи о Соборах как вероучительного противовеса обычаям и учению Римской церкви не препятствовала и «подобосущная» терминология летописного исповедания, которую традиционно связывали со случайными ошибками перевода или переписывания текста малограмотными славянскими книжниками. Невероятность того, чтобы греческое духовенство вместо или сверх обязательного при крещении Никео-Цареградского символа преподало новопросвещенному князю исполненное догматических тонкостей исповедание веры, более приспособленное для произнесения рукополагаемыми в епископы, представлялась Павлову лишь дополнительным аргументом в пользу предложенного им определения места и функции Ороса в ряду летописных исповеданий и наставлений (Павлов 1878: 8—9). В начале XX в. А.А. Шахматов имплицитно поддержал
МАИАСП № 12. 2020
Противоеретическое наставление летописной повести о крещении Владимира Святославовича концепцию Павлова, полагая, что Орос и полемическую статью против латинян в летопись ввел составитель Начального свода. Раздел о Вселенских соборах он считал составной частью Ороса — сокращенной редакции Исповедания, как это уже было установлено в иных исследованиях. Дополнительные сведения этого раздела, отсутствующие в Исповедании, ему представлялись заимствованиями из какого-то внелетописного источника. В Древнейшем своде рассказ о крещении князя, заимствованный по мысли ученого из болгарского источника, содержал лишь Никео-Цареградский символ веры и полемическую статью против латинян, составленную, возможно, патриархом Фотием. Составитель же Начального свода сократил Никео-Цареградский символ веры и включил «подобосущный» Орос по соображениям скорее литературного, чем религиозного свойства, а прежнюю противолатинскую статью болгарского происхождения заменил той, что ныне читается в летописи (Шахматов 2001: 116—118). Вместе с тем, Шахматов не сомневался, что в Древнейшем своде читались и слова «да не прельстять тебѣ нѣцѣи от еретикъ», не уточняя, кто были эти еретики в понимании славянского книжника.
Современные текстологические исследования выявляют почти полное отсутствие древнейших слоев летописания в «Корсунской легенде», составленной, возможно, сводчиком 1060-х гг. (Гиппиус 2012b: 58—62), и наличие здесь маркеров так называемого свода Никона (1070-е гг.) и Начального свода (1090-е гг.) (Михеев 2011: 109—111). А.А. Гиппиус наставления в вере Владимира относит к своду 1090-х гг. (Гиппиус 2012a: 42). Михеев к нему относит лишь противолатинский пассаж. Текст о Семи соборах в Первой новгородской летописи младшего извода начинается словом «вѣроую», а в летописях, отразивших более позднюю редакцию текста в ПВЛ, это же слово воспроизведено в повелительном наклонении — «вѣроуи». В понимании составителя текста Начального свода, к которому, восходит новгородская летопись, статья о Соборах является заключительной частью произносимого от первого лица Ороса2. Редактор же ПВЛ мыслил ее самостоятельным поучением в ряду наставлений.
В XIX в. источником летописного Ороса полагали исповедание Михаила Синкелла в переводе, близком тому, что был известен по Изборнику 1073 г. (Сухомлинов 1856: 65—71), но в варианте, сокращенном и правленом «в языке» (Павлов 1878: 8). «Подобосущие» Ороса тогда относили на счет ошибок переписчиков или переводчиков (Макарий 1857: 83—87), которые не заботились о смысле переводимого и ошибочно перевели в некоторых тезисах ὀμοούσιος — единосущный как ὀμοιούσιος — подобосущный (Потапов 1910: 11—12). П.И. Потапов отверг высказанную в начале XX в. П. Заболотским гипотезу редактирования текста Михаила Синкелла в целях адаптации к еретическому полуарианскому учению (Заболотский 1901: 1—31), считая, что еретик, сознательно исказивший православный символ веры, должен быть последовательным в своей редактуре. Здесь же Сын то подобосущен, то говорится, что Святая Троица составляет единую сущность, а Отец то равен Сыну, то «старѣи сыи». Как Заболотский, так и его оппоненты держались убеждения, что «подобосущная» терминология — прерогатива полуарианской (или арианской) ереси. В советское время интерес к семантике богословских терминов в силу известных обстоятельств был ограничен областью филологической науки. Е.М. Верещагин, изучая лексическую и грамматическую вариативность славянских переводов, пришел к заключению, что в X в., когда богословские славянские термины не завершили, так называемого, периода варьирования, варианты перевода ὀμοούσιος как «единосоущьнъ, подобосоущьнъ, коупносоущьнъ, равноестьствьнъ» и διαφέρων как «различинъ, разньствуя
МАИАСП № 12. 2020
ся, старѣи сыи» воспринимались как равнозначные (Верещагин 1989: 49—56; 1997; 2017). «Полуарианскую» («подобосущную») терминологию он относил и относит на счет литературного и языкового творчества переводчиков, хотя и не находит иных, не связанных с исповеданием Михаила Синкелла, примеров перевода греческих слов ὁμοούσιος и διαφέρω как «подобосоущьнъ» и «старѣи сыи». Между тем, Исповедание и его летописная редакция имеют разночтения с греческим источником и иными славянскими переводами — пропуски и несинонимические лексические замены, которые не могли быть обусловлены, как выясняется, деятельностью переводчика или переписчика.
В научной дискуссии по вопросу генезиса «подобосущных» терминов и содержательных отличий летописного текста от текста его первоисточника — греческого либеллия Михаила Синкелла концепции случайного генезиса «подобосущных» терминов с начала XX в. противостоит концепция намеренного еретического редактирования. Последняя — начинает свой отчет в 1901 г., с выхода в свет статьи П. Заболотского (Заболотский 1901: 24—30), отметившего в летописном Оросе такие отступления от греческого первоисточника и ортодоксального текста Изборника, как старейшинство Бога Отца вместо различения, подобосущие вместо единосущия Сына и Духа с Отцом, последовательный пропуск перевода слова αὐθυπόστατος — «самоипостасный» в определении Лиц Троицы. Определенная логика изменений текста привела Заболотского к мысли о целенаправленной полуарианской греческой или славянской редактуре летописного Ороса. Годом позже Н.К. Никольский обнаружил полную версию «подобосущного» Исповедания в Троицком сборнике № 12 и по мере знакомства с его новыми списками он не исключил славянское происхождение неортодоксальной редакции, хотя и отдавал предпочтение греческой версии ее генезиса (Никольский 1902: 99—100; 1906: 18—19). Изданный им текст Исповедания в составе Троицкого сборника (Никольский 1907: 21—24) выявил то, что не было столь заметным в летописи: наряду с еретическими тезисами он содержит ортодоксальные тезисы, которые вступают с первыми в очевидный конфликт, необъяснимый с позиции «арианского» редактирования, как то и отмечал в свое время Потапов. Неслучайно, советский историк А.Г. Кузьмин сближал полный текст «подобосущного» перевода либеллия Михаила Синкелла с ересью монархианства (савеллианства), а не арианства, которое он полагал стержневым во «взаимосвязи древнерусского христианства с кирилло-мефодиевской традицией», и в качестве доказательства указывал как раз на летописную «арианскую» версию текста (Кузьмин 1988: 35—39). В целом же, в отечественной историографии прошлого века скепсис по отношению к тексту Ороса был столь велик, что его не упоминали и в исследованиях, посвященных истории христианизации Руси (Жданов 1939: 3—30; Рапов 1998; Петрухин 2006). Идея славянского арианства, несмотря на сокрушительную критику Фр. Томсона (Thomson 1991: 31—42) и сегодня продолжает периферийное существование (Петров 2003: 167). Основным аргументом остается «подобосущная» терминология, для которой оппоненты находят и иное «неарианское» объяснение, например, в предположении, что древнерусские книжники ориентировались на идеи и терминологический аппарат раннего христианства, используя термин «подобосущный» для лучшего понимания неофитами свойств Второй и Третьей Ипостаси (Гай-Нижник, Батрак 2016).
Бельгийский ученый Фр. Томсон считает «подобосущное» Исповедание переводом текста, который был переработан в полуарианском духе в греческом, а не славянском изводе (Thomson 1991). Наличие в гипотетическом греческом протографе Исповедания термина ὀμοιούσιος на месте термина ὀμοούσιος ему представляется несомненным. В этом ключе он логичным полагает пропуск определения αὐθυπόστατος — «самоипостасный» ко всем Лицам Троицы, пропуск слов «καὶ τῷ εἶναι Πατήρ» — «и еже быти Отьць» и иные пропуски слов.
МАИАСП № 12. 2020
Противоеретическое наставление летописной повести о крещении Владимира Святославовича
Старейшинство Отца («старѣи сы») перед Сыном и Духом он понимает как отражение арианского тезиса о Сыне: было время, когда Его не было. В этом же русле он трактует особую, будто бы греческую, редакцию тезиса о двух природах во Христе, которые «собою и подобьствоу3 съвъкоуплены». Впрочем, исследователь допускает, что чтение «старѣи сы» мог ввести славянин. Пропуск перевода «συναΐδιος οὐ φύσει διαστελλόμενος οὔτε προσώπῳ»4 в тезисе «едино божество въ трьхъ лицихъ (съприсносоущныихъ не естьствы отъпрятаемы ни лицомъ5)» он полагает пропуском по гомеотелевту (лицихъ — лицомъ). Коллация греческого текста либеллия поочередно с разными славянскими переводами без сопоставления последних — друг с другом не позволила ученому в полной мере оценить отмеченный им в Исповедании пропуск перевода «καὶ ὅπου ὁ Υἱὸς ἐκεῖ καὶ ὁ Πατὴρ καὶ τὸ Πνεῦμα» — « и где Сын, тут и Отец и Дух». Он не отметил пропуск этих же слов в тексте Изборника 1073 г. и того, что ни один из известных греческих списков не содержит ни этого пропуска, ни большинство иных отмеченных им пропусков. Случайностью (неудачным переводом) Фр. Томсон объяснил и неадекватное смешение слов ὑποστάσις и ἰδιότης в переводе словосочетания «ὑποστατικαῖς ἰδιότησι» — « ипостасными свойствами» как «собьствьнымь собьствомь»: «три собьства съвьршена мысльна раздѣляема числомь и собьствьнымь собьствомь»6. Некоторые пропуски и вставки в Исповедании, например, о Седьмом вселенском соборе, он интерпретировал как неарианские. Содержательные изменения летописного Ороса, усугублявшие еретический смысл греческого, как он думает, «подобосущного» первоисточника, Фр. Томсон связывает с ошибками переписывания (Thomson 1991: 30—31), исключая саму вероятность внесения в текст сознательных изменений славянским редактором.
«Подобосущный» перевод либеллия Михаила Синкелла содержит значительное число несинонимических замен слов, а сопоставление с иными славянскими переводами либеллия выявляет их высокую частотность относительно других переводов (Похилько 2019). Около десятка несинонимических замен в словах «старѣи сы, прест ҃ ъıи, лиця (ἰδιώματα), чьтоу, дьржавьноу, дошьдъ, ложе, ръдъ, възведъ, показаному, лицемь (μορφὰς), вѣдома» дополняют иные лексические варианты: «собьство (свойство), подобосоущенъ, коупьносоущьну, равьносильноу, равьночьстьноу», семантическая тождественность которых и греческому источнику, и вариантам других славянских переводов не очевидна. Вместе с пропусками отдельных слов и предложений они радикально меняют богословский смысл отдельных тезисов Исповедания. Интерпретация вариативности в переводе слов ὑπόστασις, ἰδιότητος, ἰδιώματα, μορφὰς исключительно как явления личного языкотворчества переводчиков (и редакторов) не поддерживается историей текста Исповедания и не учитывает церковнорелигиозный контекст его бытования. Тому свидетельство — пропуски неоднозначных с богословской точки зрения лексических вариантов летописного Ороса: слов «собьствомь» и «събезначальнъ» в лаврентьевской группе летописей, «старѣи» — в ипатьевской группе летописей.
«Подобосущный» текст Исповедания — источник Ороса, сложился в результате контаминации двух славянских переводов греческого либеллия (Похилько 2019: 328—333).
МАИАСП № 12. 2020
Славянский перевод текста особого типа правили по другому древнеболгарскому переводу, близкому «Написанию о правѣи вѣрѣ Михаила сунькела иероусалимьскааго» в составе Изборника 1073 г. Редактор текста объединил одним словом «собьство» три понятия: свойство, Ипостась и Лицо — « προσώπον». Собьства/Лица в Св. Троице он полагал свойствами единого Бога рождать (Отец), рождаться (Сын) и исходить (Дух). Лица/свойства Сына и Духа составитель исповедания наделял божественной сущностью в «купносущной» Троице лишь в совокупности с Отцом, который «старее» Сына. Их «подобосущие» означает ту же сущность, что у Отца. Составитель начальной «подобосущной» версии исключил из текста слово αὐθυπόστατος — « самоипостасный», утверждавшее самостоятельное ипостасное бытие Отца, Сына и Духа, а также тезис «καὶ τῷ εἶναι Πατήρ» — «который есть Отец» и слова «τῷ γεννήτορι» — «родителю», констатирующие различение Отца и Сына. С другой стороны, он опустил и тезисы о совечности Ипостасей, о неразделенности их ни природой, ни местом, о пребывании Отца и Духа там, где Сын (Похилько 2019: 320). Таким образом, Ипостаси, лишенные независимого друг от друга бытия, все же не всегда пребывают вместе и разделяются, вероятно, временами, поскольку они не совечны. Ипостась/Лицо/собьство составитель текста Исповедания понимал и как внешность, образ: прежний перевод слова μορφὰς он изменил на слово «лицо» («образъ» в Изборнике 1073 г. и «зракъ» в Кормчих). В едином Божестве, понимаемом как единая божественная сущность, три Ипостаси, разделяемые в ортодоксальных редакциях текста числом и ипостасными свойствами, здесь представляются разделенными числом и собственным «лицемъ», которое суть образ и свойство Бога, в Сыне и Духе не всегда совечное Отцу, но несамостоятельное.
Представление автора «подобосущной» компиляции о характере и содержании Боговоплощения также двойственное. Пропуск слова «невидимый» (ἀόρατον) относительно божества святой Троицы коррелирует с правкой слова «помазанного» на «показанного» и с пропуском слова «плотию» (τὸν σαρκὶ) после слова «вѣдома» в тезисе поклонения «чл҃вческомоу тѣлоу божию словоу показаному божествомь. вѣрою вѣдыи его вѣдома» («видима», в греческом тексте — «αὐτὸν ὁρᾶν»). Тело Христа составитель Исповедания трактует как показанное Богом и ведомое верой, по сути, отрицая полноту Его Вочеловечения.
Автор «подобосущной» редакции Исповедания вторгается в изначальный текст исповедания Михаила Синкелла точечно, так что изменение смысла отдельных богословских положений теряется среди множества сохраненных тезисов ортодоксального содержания. Незаметная на первый взгляд подмена ключевых понятий: собьство, лице, своиство, образъ, использование несинонимических замен отдельных слов: сущность, Лицо, изредка допущенные пропуски слов и тезисов7 — приемы автора, скрывающего свое намерение изменить содержание текста.
Составитель летописного Ороса действует гораздо энергичнее и не щадит того, что ему досталось от предшественника, опускает и отдельные слова, и большие фрагменты текста, сохраняя наиболее неоднозначные с точки зрения современной христианской ортодоксии термины и положения своего источника — «подобосущие» Сына и Духа и старейшинство Отца (прил. 1). Первый из пропусков (181об, 17—21)8, допущенных редактором Ороса, изгнал из текста тезис о Духе, ничем не отличном от Отца и Сына (только исхождением), и тезис о божественности всех трех Лиц и их соотнесении по отдельности с Отцом, Сыном и Духом. Исчезло из текста и исповедание Св. Троицы. Летописец с видимым усилием
МАИАСП № 12. 2020
Противоеретическое наставление летописной повести о крещении Владимира Святославовича стремится объединить в своем тексте понятие Бог лишь с Ипостасью Отца. На это однозначно указывает в предложении «от҃ць бо бг҃ъ от҃ць присно сыи прѣбываеть» слово «бг҃ъ» (181об, 5—6), введенное им там, где редактор полной версии Исповедания опустил славянский перевод греческого αὐθυπόστατος. В Изборнике это слово переведено двумя словами — «своесобьствьнъ собьствьнѣ», в Кормчих — словом «единосъставьнь»9, в поздних южнославянских переводах — словом «самосьставнь». То, что редактор Ороса мыслит единого «бг҃а» вступительной фразы Богом Отцом, можно видеть из замены множественного числа глаголов «раздѣляють бо ся» и «совокупляють ся» (181об, 4, 5) единственным числом. Поскольку у летописца «собьства»/ипостаси — это свойства, то он и не исключает из текста тезис о том, что «собьства» не переходят друг в друга, вероятно, придерживаясь мысли, что Бог Отец являл себя то, как Отец, то, как Сын, то, как Дух, подобно представлениям савеллианской ереси. Отсюда «едино божество въ трьхъ лицихъ» — свойствах понимается определенным образом благодаря пропуску исповедания совершенной божественности каждого отдельного Лица (182, 4—7), пропуску большого фрагмента текста о совместном в вечности пребывании Лиц и исповедания Св. Троицы, ее свойств и действий, включающих Творение мира (182, 9—182об, 22). Орос опускают и тезисы о небытии сущности зла и грехопадении человека.
Летописный редактор удаляет также исповедание двух природ в единой Ипостаси Сына (183, 13—183об, 4) и совоскресения Им с собой человеческой сущности, соделанной нетленной и бессмертной (183об, 11—13), что соотносимо с отрицанием спасительной миссии воплощенного Сына. Словосочетанием «тако и сниде» составитель Ороса заменил сообщение, что Сын будет узрен пронзившими Его и воздаст во всеобщем воскресении каждому по его делам (183об, 16—23). Благодаря купюрам в Оросе «бъ҃ въплощенъ» не назван Сыном. Истинность Боговоплощения осмыслена как истинное и непризрачное явление в своей (божественной) плоти Бога Отца, о человеческой природе Сына воплощенного нет ни слова. Действовал в истории Спасения своей волей Бог, который Отец. Кто же тогда «сѣде одесноую о҃ца»? Ответ, вероятно, тот, что подобносущные Сын и Дух (свойства) не самостоятельны и не отделены от Отца. Таков смысл изменения «фразы въкоупѣ оц҃ь въкоупѣ сн҃ъ. въкоупѣ дх҃ъ. сн҃ъ есть» (181об, 11—13) на «въкоупѣ оц҃ь въкоупѣ сн҃ъ въкоупѣ дх҃ъ ст҃ыи есть». Удаление приставки «съ» из слов «събезначальнъ» и «съприсносоущно», определяющих отношения Ипостасей, дает возможность их толкования в контексте зависимости Сына и Духа от Отца и ситуативного отождествления Отца со Второй и Третьей Ипостасью.
В Оросе опущены слова исповедания крещения как возрождающего и очищающего от скверны плоти и духа (184, 2—3), слова о принадлежности Тела и Крови воплотившемуся Богу Слову, давшему их верующим в «снедь и питие» ради оставления грехов (184, 5—8). В признании всех писаных и неписаных церковных преданий (184, 9—10) составитель летописного Ороса опускает слова «всехъ» и «писаниемь и безъ писания». Тезис о поклонении иконам летописец лишает слов о человеческом теле Господа, показанного божеством, и Его видимой плоти, посредством которой мир принял Спасение (184, 11—17).
В Оросе отсекается после исповедания поклонения кресту и святым сосудам весь заключительный блок со словами о Господе, повешенном на кресте «плотию» (184, 18—20), с поклонением святым церквам, местам, священным книгам, иконам Богородицы и святых угодников и с анафематствованием всех еретиков (184, 21—184об, 16). В число пропусков, внесенных редактором летописного исповедания, входят слова «и божественные» — «καὶ
МАИАСП № 12. 2020
θείους» относительно церквей и «по природе» — «φύσει» в исповедании поклонения иконам ради любви к поклоняемому по природе Богу. Лексические замены у летописного редактора единичны, (например, замена слова «възведъ» (183об, 13) словом «взыиде»), его основной прием в работе над текстом — отсечение того, что противоречит его еретическим представлениям.
Летописец само слово «Троица» исключил из текста, понимая Бога как Отца и как единую божественную сущность, где Ипостаси являются свойствами Отца рождать, рождаться и исходить. Последовательно извлекая из текста те положения, которые входили в противоречие с этими взглядами, он придает тексту много большую целостность и логичность, чем его предшественник. В результате, то, что было лишь намечено в «подобосущном» Исповедании, в Оросе проявилось более отчетливо. Исповедание летописца можно было бы назвать исповеданием единого божества в трех свойствах/образах, что до известной степени перекликается с тем, что мы знаем о савеллианской ереси (модализме), которая полагала Лиц Святой Троицы не вечными Личностями, а лишь неединовременными проявлениями, «модусами» Божества.
С ересью Савеллия Птолемаидского, жившего в III в., Синодик царя Бориса сопоставлял учение богомилов о присовокуплении Отцу «три же звания» Отца, Сына и Св. Духа, где Отец мыслился «чл҃вколична» (Попруженко 1900: 15, прил. III). Учение Савеллия, ведущее к слиянию Лиц Святой Троицы, вспоминает и Козьма Пресвитер — составитель «Беседы на новоявивъшуюся ересь богоумилоу». Болгарский писатель X в. не ставил знак равенства между новоявленной ересью и древней савеллианской ересью, упоминая и иных еретиков, чьим заблуждениям присуще умаление Второй и Третьей Ипостаси: Македония, учившего, что Святой Дух — служебное творение, Ария, полагавшего Сына не равным Отцу и творением Бога, «акы ангела» в некоторых списках (Cosmas Presbyter 2006: 5—6).
Антитринитарное учение о трех Лицах как последовательных проявлениях (модусах) Бога в тварном мире упоминают и восточнославянские авторы антилатинских полемических сочинений. Во второй редакции Ответов Феодосия печерского игумена10 на вопрошение князя Изяслава о католиках сообщается, что из них «много же и в савельскую ересь въступили суть, яко всѣхъ языковъ поганѣйши суть, и злѣйши, зане же ся ихъ немощно ублюсти, а поганыхъ мощно» (Бармин 2006: 509—510). Митрополит Георгий в «Стязании с латиною», сопоставляя в обвинениях в антитринитаризме, иконоборчестве и монофизитстве «латинство» с «жидовьством» (и арианством), писал, что латиняне «ни трисъставно бж(с)тво исповѣдають. нъ аки еретикъ Савелии. единосъставно и троеименьно. онъ бо гл҃аше. единъ оц҃ь есть. именуеть же ся оц҃ь и сн҃ъ и ст҃ыи дх҃ъ» (Софийский сборник 2013: 104б—104в). Сборник «Беседа Козьмы Пресвитера на богомилы», составленный в разгар борьбы древнерусских иерархов с новгородской ересью «жидовствующих» (конец XV в.), включает сочинение болгарского писателя—полемиста, Послание трех патриархов к императору Феофилу в защиту иконопочитания и обширную подборку «основных антилатинских сочинений, в конце которой дан свод выписок о почитании Святой Троицы, который часто входит в состав антилатинских подборок в качестве аргумента против якобы существующего «антитринитаризма» католиков» (Чумичева 2010: 221).
Мы видим, что имеющие в своем учении определенные содержательные параллели с савеллианской ересью «подобосущные» Исповедание и летописный Орос умаляют самостоятельное личностное бытие Второго и Третьего Лица иначе, чем еретики III в.
МАИАСП № 12. 2020
Противоеретическое наставление летописной повести о крещении Владимира Святославовича
Субординационистское понимание отношений Ипостасей, «старшинство» Отца относительно Сына противоположно учению модалистов о явлении Бога то, как Отца, то, как Сына, то, как Духа. Отрицание полноты Божества и Человечества в Сыне также далеко отстоит от древней ереси. Отграничение Бога Творца от Бога Слова и пропуск словосочетания «яко бъ҃ и тогоже волею хотяща и дѣиствующа» и слова «волею» — «ἑκουσίως» в тезисе о Господе, вольно желающего и действующего, в «подобосущной» редакции ведет к пониманию божьего и человеческого действия и волеизъявления Сына как действия и волеизъявления Сына, который не человек и в то же время и не Бог. Пропуск в «подобосущном» Исповедании слова «душой» (ψυχῇ) в тезисе о восприятии Господом плоти, одушевленной душой, словесной и разумной, замена слова «помазанного» на «показанного» (Божеством) ставят под сомнение совершенную полноту человеческой природы в Сыне иначе, чем это делали савеллиане, и более созвучно представлениям иных еретиков — болгарских богомилов, убежденных, что Христос был ангелом и, неся свое служение рабски, «не хотяще, нуждею», являл собой лишь призрачную плоть (Cosmas Presbyter 2006: 17).
Интерпретации текстов Исповедания и летописного Ороса как плодов деятельности редакторов — еретиков богомильского толка препятствует, казалось бы, исповедание ими церковных таинств. Само декларируемое в этих текстах намерение приступить к Причастию не соответствует богомильской обрядовой практике. Учение о Воплощении как явлении не вполне «по природе» (не совсем естественном), которое прибавляло к «показанному» телу Сына не только «естъство», но и иное качество, присущее служебным духам, а не Богу (Попруженко 1928: 48), закономерным образом выливалось у еретиков в неприятие Крещения, Святых Таин, Креста и др.11 Зато и учителя церкви в полемике с болгарскими еретиками часто больше говорили не о учении, а о внешней обрядовой стороне их жизни. В статье «О Богумиле попе» Древнеславянской кормчей Ефремовской редакции, предваряющей чин принятия сарацин в православную веру, перечень «вин» болгарских отступников от веры состоит из одних преступлений против церковных обрядов и таинств (Бенешевич 1987: 134). Болгарский Синодик, пересказывая взгляды и представления богомилов, основное внимание уделяет тому, как они влияют на церковную жизнь еретиков, на отношение к таинствам и обрядам. Козьма Пресвитер сообщает о богословии еретиков очень немного, например, что Творцом всего видимого, в том числе и человека, богомилы считали дьявола, ангела отпавшего (Cosmas Presbyter 2006: 45). В то же время болгарский писатель не раз возвращается к внешним проявлениям их веры, с горечью указывая, что еретиков порой трудно отличить от правоверных христиан и лишь демонстративное уклонение от церковных обрядов и таинств позволяло клиру безошибочно выявлять их в своей пастве12. Еретики часто выглядели благочестивыми, «извъноу акы овьця образомь кротьци и съмирени и млъчаливи», отрицая, что держатся ереси, и называя себя христианами (Cosmas Presbyter 2006: 8, 55, 60). Козьма Пресвитер свидетельствовал, что «они страха ради чловѣчьска и въ црькъвь ходятъ и крьстъ и икону цѣлоуютъ», скрывая свою веру так, что
МАИАСП № 12. 2020
некоторые «мнят их за правду страждущими» (Cosmas Presbyter 2006: 37, 42). С образом, столь возмущавшим обличителя богомильской ереси, сопоставима осторожность и неприметность «правок» Исповедания, искажающих учение церкви, но оставляющих без изменения исповедание церковных таинств и обрядов.
Еретическая компиляция — славянская «подобосущная» редакция либеллия Михаила Синкелла бытовала в восточнославянском изводе, как минимум, в первой половине XI в.13 Свидетельство противостояния древнерусской церкви и еретиков, чьи взгляды были близки «савельской» и богомильской ереси, находим в исповедании первого русского митрополита Илариона (1051—1055 гг.). Он неоднократно возвращался к утверждению, что Сын «не отлучися» от Отца «и бы(с) человѣкъ истиненъ, не привидѣниемь» (Розов 1963: 174—175), что знаменательно, если вспомнить, что в исповедании Троицы, разлучаемой на 33 года, обвиняли богомилов, по поверьям которых Сын «в привидѣни» родился от Девы Марии, распялся призрачно и затем вознесся обоженной плотью к Отцу (Попруженко 1928: 42), после чего вновь воссоединилась Троица. За нелестными отзывами в адрес «савельской» ереси, встречаемыми в памятниках славянской письменности X—XII вв., обнаруживаются актуальные для того времени споры с представлениями, близкими тому учению, что вдохновляло редакторов Исповедания и летописного Ороса, и в которых православные полемисты подозревали болгарских богомилов и латинян. Судя по ним, «жидовское мудровствование» антитринитаристского (савеллианского) толка в восточнославянских землях появилось едва ли позднее первой половины XI в. На этом фоне особый интерес составляют интенции, которые побудили летописца объединить в единое противоеретическое наставление статью антилатинской направленности и исповедание, редактированное в духе антитринитарной ереси.
Исследователи не раз отмечали тематическую и структурную близость текстов летописного Ороса и исповедания веры митрополита Илариона (Щапов 1977: 333; Müller 1971: 18), зачитанного им при рукоположении (Розов 1963: 146; 173—175). В рукописи Син. 591 текст Илариона располагается так же, как Орос в летописи, вслед за Никео-цареградским Символом веры, соответственно чинопоследованию епископской хиротонии (Дмитриевский 1904: 176—177, Неселовский 1906: прил. XXII—XXV). Митрополит Иларион так же, как и составитель Исповедания, подробно излагает тезисы, отсутствующие в древнем Символе веры: о свойствах Ипостасей Единого Бога, их соединении в Святой Троице, о Вочеловечении Сына и Его Втором Пришествии. Но Иларион не упоминает принятие Святых Тайн, ничего не говорит и о Вселенских Соборах. Чин епископской хиротонии Устава Великой константинопольской Церкви предусматривал личное исповедание рукополагаемого в первой части литургии — литургии оглашаемых, до чтения евангелия (Дмитриевский 1904: 178—179). Этому порядку следовал и Иларион, потому его исповедание, далеко предшествующее центральной части литургии верных — анафоре, не упоминало таинство Причащения, совершаемое в конце второй части богослужения. Из слов же Ороса и Исповедания «пристоупаю къ пречыстымъ таинамъ» следует, что они произносились вслух в конце литургии верных перед причастием (и далеко не вслед за Символом веры, проговариваемым в середине литургии). Текст Исповедания (и Ороса), таким образом, не епископская присяга (Павлов 1878: 9). Его не могли использовать и для
МАИАСП № 12. 2020
Противоеретическое наставление летописной повести о крещении Владимира Святославовича наставления оглашаемых, которых допускали с какого-то времени лишь к первой части литургии (Арранц 1988). Епископское исповедание сопровождалось обычно обещанием хранить верность Церкви, апостольским преданиям и установлениям вселенских и поместных соборов. Такие обещания вкупе с Никео-Цареградским Символом веры были обязательными и в исповедании императора, передаваемого им патриарху в обряде священного коронования (Попов 1896: 70). Орос Михаила Синкелла не содержит подобных обещаний. Составитель Начального свода не мыслил этот текст огласительным наставлением язычника, не мог он полагать его и исповеданием епископского или императорского настолования.
Изначально в восточнославянских землях исповедание Михаила Синкелла распространялось посредством сборников, переведенных в южнославянских землях в IX—X вв. и не связанных с антилатинской полемикой — это известный сборник учительного содержания (Изборник Симона/Святослава 1073 г.), Древнеславянская Кормчая Ефремовской редакции и, возможно, Минейный изборник (Буланин 1991: 126—137)14. В Изборнике 1073 г. исповедание Синкелла ортодоксальной редакции размещается в ряду сочинений учительного плана, посвященных разъяснению святыми отцами догмата о Святой Троице. Здесь либеллий славянского перевода лексической группы «Собьство» — образец исповедания христианской веры помещен в ряду статей, так или иначе связанных с тринитарно-богословской полемикой. В Кормчих Ефремовской редакции, переведенных с греческого Номоканона XIV титулов не позднее начала XI в. (Пичхадзе 2011: 22—23), «Образ правыа непорочныа христианьскыа вѣры» Михаила Синкелла (иная ортодоксальная версия его ороса) вместе с изложением шести Вселенских соборов обрамляют, с одной стороны, сочинения Епифания Кипрского против ересей и Тимофея пресвитера о способах принятия еретиков в Церковь (Бенешевич 1906: 644—738), с другой — анафематствование основных ересей и еретиков с кратким их перечислением в том порядке, что указал выше Епифаний (Бенешевич 1987: 37—38).
В византийской и производной из нее славянской книжности X—XI вв. орос Михаила Синкелла, несомненно, занимал значительное место в борьбе и полемике с различными ересями, среди которых славянских книжников более всего тревожили те, что искажали троическое богословие. В одной из рукописей Кирилло-Белозерского собрания (РНБ. Кир.-Белоз. собр. №75/1152) к тексту исповедания Михаила Синкелла ортодоксальной редакции имеется клятвенная приписка «Сице м(у)дръствоую и върую и исповедаю пр(и)сно с(вя)тую и животворящую и единосущноую Тр(ои)цу, даже до посльдняго моего издыханиа благ(о)д(а)тью Х(ри)с(то)вою. Аминь» (Новикова 2013: 138—139). О.Л. Новикова полагает автором этой записи ростовского архиепископа Феодосия, в 1445 г. представившего малому поместному собору покаянную грамоту с осуждением своего «новоначясства». Исследовательница замечает, что такие клятвенные записи в объединении с исповеданиями встречаются в документах, которые или сопутствуют поставлению епископов, или должны подтверждать их верность православной церкви. Общий противоеретический контекст бытования славянского перевода ороса Михаила Синкелла в разных редакциях — летописной и ортодоксальной (по Кирилло-Белозерского списку №75/1152, в Изборнике 1073 г., Древнеславянской Кормчей), в сопоставлении с известной традицией обращения к этому исповеданию церковных и светских иерархов, заподозренных в отступничестве от
МАИАСП № 12. 2020
православной веры, вероятно, связан с его исторически сложившимся статусом образцового исповедания в ситуации публичного отмежевания от гетеродоксальных учений.
На этот статус указывают и характерные особенности двух славянских компиляций, составленных на основании либеллия Михаила Синкелла — сочинений «Образъ святыя вѣры изложенъ на первом съборѣ» и «Изложение вкратце о православнеи вѣре Иоана философа к нѣкоему просившу оу него» . В сборнике южнорусского письма петербургского собрания (БРАН. 13.3.23. 1512 г. Л. 173—179; Яцимирский 1898: 88)15 текст сокращенной редакции «Образа святыя вѣры» имеет запись, идентичную клятвенной записи покаянной грамоты ростовского архиепископа Феодосия: «сицe мудрствую и … дo последнегo моегo издыхания. благодатию христовою. Аминь». А «Изложение вкратце о православнеи вѣре Иоана философа»16 упоминает еретиков Ария и Савеллия, которые «ово убо едину и тоуж(д)е ипостась гл҃я о бз҃ѣ. его(ж) являти(с) овог(д)а яко о(т)цу. овог(д)а яко сн҃у. овог(д) же яко дх҃у ст҃му. ов же раздѣляя и сьсѣца бж(с)тво». Завершается вероучительное толкование Иоанна рассказом о Семи вселенских соборах, перечисляющим тех же еретиков, что и летописная статья о Соборах: Арий, Македоний духоборец, Несторий, Евтихий и Диоскор, Ориген и Евагрий, Сергий. Исключение составляет Пирр, поименованный на Шестом соборе в числе анафематствованных вместо Кира, указанного летописью.
Представление, будто князю Владимиру Орос передали во время оглашения — издавна существующая и неверифицированная интерпретация летописного рассказа, где сообщается, что некие лица ни то во время, ни то после крещения и оглашения передали Владимиру Святославовичу Символ веры и «подобосущный» текст с повелением остерегаться еретиков, веровать же и исповедовать веру согласно предложенным текстам. Безличность собеседников князя не мотивирована в пределах логики Корсунской легенды, где перед тем упоминаются «епископъ корсуньскыи с попы», которые и должны были бы научить князя христианской вере, будь составитель Начального свода уверен, что Орос — текст огласительный. Если равноапостольный св. князь Владимир был язычником до корсунского крещения, то его оглашение не предусматривало иного вероисповедания кроме Никео-Цареградского. Предположение, что князь Владимир не произносил Орос, а лишь заслушал его во время оглашения (Верещагин 2017: 84—85) противоречит церковной традиции катехизации, во время которой оглашаемых знакомили лишь с Никео-Цареградским Символом веры, ограничиваясь толкованиями.
Установившаяся к X в. каноническая практика оглашения (95 правило Шестого Вселенского собора) включала иное исповедание (помимо известного Символа веры) только для переходящих в православие еретиков и иноверцев (Серафимов 1904: 80—81, 113, 166— 187, 190—197). Иноверных (мусульман и иудеев) и еретиков, которые заблуждались относительно основных положений христианской веры и существенно их искажали, не признавали таинства Крещения, либо совершали его неправильно (в древности — монтанисты, евномиане, савеллиане), крестили и оглашали по тому же чину, что и язычников, но с возглашением вместе с Символом веры иного исповедания. Этому предшествовали многословные заверения в искренности намерения присоединиться к православию и подробные отречения от прежних заблуждений. Подобные же заверения и многословные «проклятия» в адрес ересей и ересиархов составляют основное содержание чина принятия через миропомазание тех, «кто въ ереси бывъ кр҃щенъ сы(и) и обратится любо
МАИАСП № 12. 2020
Противоеретическое наставление летописной повести о крещении Владимира Святославовича хвалисинъ17 любо жидовинъ любо кии еретикъ» (РГБ. Ф. 304.I. № 205. Л. 439об—446об; Бенешевич 1987: 130—177). Летописный Орос, содержащий литургическую предпричастную формулу, как и следующая на ним статья о Соборах, кратко перечисляющая проклинаемые ереси и догматы, утвержденные святыми отцами, не сопоставимы с теми исповеданиями, что включают чины присоединения еретиков к церкви через крещение или миропомазание. Но в древнерусские кормчие эти чины проникли лишь во второй половине XIII в. и, очевидно, долгое время не имели практического применения. Переход инославных и еретиков в православие в предшествующее время мог осуществляться через словесное только исповедание, включавшее отречение от прежней веры (Корогодина 2013: 106—107) согласно третьему из трех чинов присоединения неправославных к православной церкви через покаяние с отречением от ересей (Серафимов 1904: 81—87).
«Подобосущное» Исповедание (полный текст) анафематствованию ересей уделяет половину заключительной фразы, а именно: «и вся еретикы и то и тоже моудрьствоующихъ съ нимь и всѣхъ ереси ихъ бѣгаю и проклинаю и гноушаю ся». Его сообщение о Соборах состоит из краткого перечисления, где и в каком количестве собирались святые отцы без каких либо проклятий в адрес ересей. Этот текст не мог использоваться в обряде присоединения еретиков даже в период гипотетического упрощения обычной церковной практики. Иначе выглядит следующая за Оросом статья о семи Вселенских соборах, которая перечисляет ересиархов поименно с анафемами и исповедует «Троицю единосущьну, святую богородицю, съвръшена бога, свершена человѣка господа нашего Иисус Христа» и поклонение иконам. Оппонент А. Попова, считавшего статью о Соборах заимствованием из какого-то греческого источника — А. Павлов определял в качестве такого источника Палею хронографическую полную, текст которой порой дословно воспроизводит и антилатинская статья (Павлов 1878: 9—14), что давало ему основание настаивать на том, что летописец создал цикл наставлений единственно для обличения латинского учения. Но анализ летописной статьи о Соборах ведет к выводу, что в ее основе лежит текст иного нехронографического характера.
Город Константинополь Исповедание называет «Костянтинѣ градѣмъ» во всех случаях, а в летописном тексте о Семи соборах в одном (первом) случае этот город назван также, а в двух других — «Цесариградѣмъ», в Хронике Амартола и Палее этот город в первом и третьем случае (Второй и Шестой собор) назван «Костянтинѣ градѣ», а в описании Пятого собора «Цр҃ѣгрдѣмъ»18. Хроника Амартола и Палея хронографическая на Шестом соборе упоминают Сергия и Пирра, а не Сергия и Кира, именуемых летописью19. Летописец насчитывает на седьмом Соборе 350 святых отцов, Исповедание — 330, а Амартол и Палея — 35520. Летописная статья о Вселенских соборах, начинается со слов «вѣроую же седми соборъ святых отець», отличных от начальных слов соответствующего раздела в Исповедании «приемля и цѣлуя святыихъ по всеи вьселенѣи седмь соборь». Основной метод работы составителя летописного Ороса — сокращение текста, пропуски отдельных слов и
МАИАСП № 12. 2020
значительных по объему тезисов. Что могло бы его побудить распространить текст о Соборах (в том виде, как он представлен в Исповедании) сообщениями о еретиках, ересях и анафематствованиях при том, что главный вектор его собственной редактуры противоположный? «Подобосущное» Исповедание не было источником летописного текста о Соборах. Полагаем, что составитель Начального свода переработал с сокращениями и изменениями текст, составленный по образцу исповеданий отступников и еретиков, присоединяемых к церкви. То исповедание, основную часть которого летописец заменил «подобосущным» Оросом, было ортодоксальным в своем содержании, перечисляло и анафематствовало ереси и еретиков.
В качестве примера исповедания, послужившего образцом для составителя Начального свода, укажем составленное Иоанном Дамаскином для некоего епископа, бывшего монофелита, исповедание, зачитанное тем при рукоположении после перехода в православие. Оно гораздо многословнее текста Михаила Синкелла, но заканчивается сжатым пересказом истории шести Вселенских соборов такого же приблизительно объема, что и в летописи. Иоанн Дамаскин упоминает тех же еретиков, которых упоминает летописная статья,21 и следует тому порядку в изложении догматов, которому следовал византийский исповедник иконопочитания Михаил Синкелл (Иоанн Дамаскин 2009: 14).
Составитель Начального свода внес в текст о Соборах предшествующего исповедания характерные «правки», заимствованные или из Хроники Георгия Амартола, или из ее компиляции (несохранившегося Хронографа по великому изложению)22. Так в сообщении о Первом соборе летопись и Палея хронографическая23 полная приводят отсутствующие в Хронике Амартола — источнике Хронографа слова «проповѣдаша вѣру непорочну и праву». В описании Второго собора Амартол упоминает проклинаемых святыми отцами еретиков Савелия и Лювианина, которые «едино лицѣ во святой Троице славяще» . Летописец это сообщение замещает утверждением, что святые отцы «проповѣдаша Трц҃ю единосущну»24, которого нет в Палее. Оно присутствовало или в Хронографе, или в прежнем исповедании. С другой стороны, составитель Ороса, отказавшись от своего привычного приема — сокращать «неудобный» текст, мог счесть необходимым самостоятельно составить антитезу словам Амартола сообразно своим богословским представлениям. Лаконичное сообщение летописной статьи о Третьем соборе, на котором «проповѣдаша ст҃ую бц҃ю» может быть сокращением общего чтения Хроники Амартола и Палеи — «законьствова… ст҃оую Мр҃ью истиньную и безложноую бц҃ю»25. Летописное описание Четвертого собора, на котором «исъгласивше свершена бг҃а. свершена члв҃ка г҃ а нашего Ис҃а Х҃а», также сокращает чувствительным образом сообщение Амартола и Палеи, что собор «изгласиша же свершена ба҃ и свершена члв҃ка того же въ двою естьствоу неслияна и нераздѣлна г(с)а и ба҃ наше(г) Ис҃ Х(с)а». Составитель Ороса, как мы помним, также удалил в своей редакции сообщение о двух природах единой ипостаси Сына. Впрочем, перечисленные разночтения, как и сообщение о Кире на Шестом соборе, могли перейти в летопись из прежнего неизвестного исповедания, замененнного в основной его части «подобосущным» Оросом.
МАИАСП № 12. 2020
Противоеретическое наставление летописной повести о крещении Владимира Святославовича
Летописец, несомненно, понимал Орос и статью о Соборах как единое противоеретическое исповедание. Павлов видел в Оросе и сказании о Соборах формально необходимую составляющую догматической части общего противолатинского наставления. Второе и более подробное (историческое) обращение летописца к теме Соборов в антилатинской статье он связал с желанием летописца показать, что прежде латиняне не были еретиками и приходили вместе с греками на общие соборы против ересей. Так ли это? Антилатинская статья начинается с предложения не принимать учение латинян, потому что оно искажено. Аллюзия на вступительное предупреждение против неких еретиков здесь очевидна. Далее летописец следует установке, озвученной ранее в обращенной к Владимиру Речи философа, что вера латинян «с нами мало развращена», и перечисляет их «вины», принадлежащие исключительно сфере церковных обычаев и обрядов. Сведения он черпает из хронографической компиляции и Слова печерского игумена Феодосия к князю Изяславу. У Феодосия он заимствует утверждение, что католики не целуют икон, а крест пишут на земле и целуют, встав на него, а также обвинение священников Римской церкви в том, что они грехи прощают за плату (Бармин 2014: 292—293, 301). Упоминаемые Словом Феодосия латинские отступления — служба на оплатках и постовые нарушения приводились перед этим в речах послов-миссионеров перед Речью философа.
Из хронографического источника (Хронографа по великому изложению) взяты сообщения об апостолах, передавших Церкви почитание Креста и икон, о Луке евангелисте — первом иконописце, о святых отцах и иерархах, сходившихся на Вселенские соборы, о Петре Гугнивом, будто бы захватившем Римский престол и веру развратившем, и, наконец, о брачных обычаях латинских клириков26.
В ряду перечисленных «вин» выделяется обвинение латинян в том, что они Землю называют Матерью. Полагаем его рудиментом текста летописного свода 1070-х гг., в котором продолжалась заложенная Речью философа линия наставления в вере аудитории, находящейся под влиянием учения, близкого богомильским представлениям. Летописец удалил все, что соотносилось с близкими ему по духу отступниками антитринитаристкого толка, и сохранил лишь то, что относилось к язычникам. О том, что это был текст общего огласительно-обличительного содержания, говорят характерные риторические приемы: обращение к логике (да аще имъ есть земля мт҃и, то оц҃ь имъ есть н҃бо… аще ли по сих разуму земля есть мт҃и, то почто плюете на мт҃рь свою, да сѣмо ю лобъзаете, и паки оскверняете») и аллюзии на известный огласительный текст (Искони бо створи бъ҃ н҃бо таже землю) и молитву «Оч҃е нашь иже ес на н҃бси» — непременный объект толкований и размышлений в катехизации недавних язычников. Таким образом, летописец так же, как заменил еретически правленным текстом Ороса основную часть некоего ортодоксального исповедания, так и антилатинской статьей заменил прежний текст, обличавший носителей актуальных для того времени и социума еретических воззрений, оставив в сокращенном виде лишь то, что относилось к обличению язычников.
Объединяя Орос с антилатинской статьей, составитель Начального свода, возможно, ориентировался на греческие рукописи, в которых исповедание Михаила Синкелла сопровождало сочинения патриархов Фотия и Михаила Керулария27, полемизировавших с
МАИАСП № 12. 2020
учением Римской Церкви. В писаниях православных патриархов немалое место отводилось проблеме Filioque, а житие Михаила Синкелла, составленное не позднее середины IX в., упоминает палестинских «латинян» именно в связи с их требованием ввести Filioque в символ веры (Бармин 2006: 34). Ни житие Михаила, ни иные источники не сообщают ничего определенного о роли Синкелла иерусалимского в деле противостояния римлянам, но церковное предание прочно связывало его имя с дискуссией по Filioque. В летописном же повествовании мы не находим ни слова о расхождении православных с католиками по вопросу исхождения Святого Духа не только от Отца, но и от Сына. Увлеченный поисками непосредственных источников летописных известий, Павлов этот факт связал с тем, что летописцу не были известны труды патриарха Фотия. Он оставляет без внимания тот факт, что один из признанных им источников летописной статьи — «Слово Феодосия к князю Изяславу» включает проблему Filioque в число латинских «вин». Учение латинян об исхождении Святого Духа от Отца и от Сына упоминали и осуждали на Руси второй половины XI — начала XII в. киевский митрополит Ефрем28 в своем трактате (Чичуров 2007), митрополиты Георгий в «Стязании с латиною», Иоанн в Послании к архиепископу Римскому об опресноках, Никифор I в Посланиях к князьям Владимиру Мономаху и Ярославу Святополчичу.
Причина умолчания летописью проблемы Filioque не в источниках, а в тех интенциях, которые побуждали составителя Свода 1090-х делать замены и сокращения в привлеченных им широко известных литургических текстах. Осуждение латинского учения об исхождении Святого Духа как от Отца, так и от Сына, которое восточные отцы Церкви возводили к «савеллианству», столь близкому богословским представлениям летописца, могло бы подвести к сопоставлениям, опасным для его целей. Поэтому он, уклоняясь от обсуждения собственно вероучительных отступлений, сосредотачивается на описании будто бы присущих латинянам церковных обрядов и обычаев с такими интонациями и подробностями, которые не оставляют сомнений в том, что он их осуждает и не разделяет.
Выводы
-
1. Изменения, внесенные летописцем в текст «подобосущного» Исповедания — еретически «правленой» компиляции, составленной на основании двух славянских переводов либеллия Михаила Синкелла, и в статью о Соборах, определялись особенностями его тринитарно-богословских представлений: пониманием единой сущности Отца, Сына и Духа как слияния Второй и Третьей ипостасей с Ипостасью Отца, будто бы являемой в трех лицах/образах/свойствах;
-
2. Славянские православные полемисты XI в. часто соотносили с «савельской» ересью и «жидовским мудрствованием» обличаемые ими заблуждения антитринитаристского толка не до конца проясненного содержания, латинское учение о Filioque и богомильскую (в южнославянских сочинениях) ересь. На этом фоне желание составителя текста Начального свода противопоставить собственное антитринитарное учение учению латинскому представляется вполне органичным;
-
3. Антитринитаризм еретического Ороса, до известной степени сближающий его с ересью Савеллия, имеет выраженный субординационистский и докетический уклон, что с
МАИАСП № 12. 2020
-
4. Общий противоеретический контекст воспроизведенной летописцем традиционной литургической формулы (Символ веры, личное исповедание с оглашением постановлений и анафематствований Вселенских соборов) позволил ему в отмежевании от латинян с перечислением их «вин» противопоставить учению западной Церкви собственное исповедание веры как образцовое;
-
5. Исходный летописный текст, с которым работал в 1090-е гг. редактор Начальной летописи, содержал Символ веры и наставление, вероятно, включавшее исповедание веры по типу исповеданий, составляемых православными иерархами для подтверждения правильности их учения. Это наставление содержало обличение языческих обычаев и еретических учений, а также толкование молитв и текстов, традиционно сопутствующих церковному оглашению. Летописец сократил до инципита Никео-Цареградский символ веры, входивший в очевидный антагонизм с составленным им текстом Ороса, которым заменил прежнее исповедание в основной его части, нивелировав вместе с тем в заданном направлении и текст о Вселенских соборах — непременный атрибут противоеретических исповеданий с анафематствованиями и воспроизведением принятых на них догматов и постановлений.
Противоеретическое наставление летописной повести о крещении Владимира Святославовича большей долей вероятности предполагает влияние другой в исторической перспективе более близкой ереси — богомильской;
Список литературы Противоеретическое наставление летописной повести о крещении Владимира Святославовича
- Арранц М. 1988. Чин оглашения и крещения в Древней Руси. Символ 19, 69—101. Арранц М. 1993. О Крещении князя Владимира. В: Громова Е.Б., Куренная Н.М., Ритчик Ю.И. (ред.). Тысячелетие введения христианства на Руси. 988—1988. Москва: Институт славяноведения и балканистики РАН, 61—76. Арранц М. 2003. Избранные сочинения по литургике. Т. I. Таинства Византийского Евхология. Рим;
- Москва: Папский Восточный Институт; Институт Философии, Теологии и Истории св. Фомы. Бармин А.В. 2006. Полемика и схизма. История греко-латинских споров IX—XII веков. Москва:
- Институт философии, теологии и истории св. Фомы. Бармин А.В. 2014. «Сочинение против франков» в Mosq.gr.240 — памятник противолатинской полемики XI — начала XII вв.? ВВ 73(98), 296—308. Бенешевич В.Н. 1906. Древне-славянская кормчая XIV титулов без толкований. Т. 1. Санкт-
- Петербург: Типография Императорской Академии Наук. Бенешевич В.Н. 1987. Древнеславянская кормчая XIVтитулов без толкований. Т. 2. София: БАН. Буланин Д.М. 1991. Античные традиции в древнерусской литературе XI—XVI вв. München: Sagner. Верещагин Е.М. 1989. Был ли креститель Руси князь Владимир еретиком-арианином? Известия АН
- СССР. Серия литературы и языка. Т. 48. № 1, 49—56. Верещагин Е.М. 1997. История возникновения древнего общеславянского литературного языка.
- Переводческая деятельность Кирилла и Мефодия и их учеников. Москва: Мартис. Верещагин Е.М. 2017. «Либеллий» Михаила Синкелла и «ВЪра хрьстианьска» князя Владимира Великого: лингвистические наблюдения. В: Макаров Н.А., Назаренко А.В. (ред.). Русь эпохи Владимира Великого: государство, церковь, культура: Материалы Международной научной конференции в память тысячелетия кончины святого равноапостольного князя Владимира и мученического подвига святых князей Бориса и Глеба, Москва, 14-16 октября 2015 года. Москва; Вологда: Древности Севера, 84—129. Вилкул Т.Л. 2016. О хронографических источниках «Повести временных лет» и времени появления древнерусских хронографов. В: Беляев Д.Д, Гимон Т.В. (ред.). Древнейшие государство Восточной Европы. 2013 год. Зарождение историописания в обществах Древности и Средневековья. Москва: Университет Дмитрия Пожарского, 655—705. Гай-Нижник П.П., Батрак О.П. 2016. 1сторико-герменевтична штерпретащя понять «единосущнють» i «подiбносущнiсть» у ранньохристиянський перюд в контекст церковно-теолопчних догмапв
- Символа Вiри ^зантшство — латинство — арiанство) (Ч. 1). В: Вашкевич В.М. (ред.). Плея: науковий в1сник, сб1рник накових праць. Вип. 106, 9—17.
- Гай-Нижник П.П., Батрак О.П. 2016. 1сторико-герменевтична штерпретащя понять «единосущнють» i «подiбносущнiсть» у ранньохристиянський перюд в контекст церковно-теологiчних догматов Символа Вiри (вiзантiйство — латинство — арiанство) (Ч. 2). В: Вашкевич В.М. (ред.). Плея: науковий в1сник, сб1рник накових праць. Вип. 107, 23—29.
- Гиппиус А.А. 2001. «Рекоша дружина Игореве...»: К лингвотекстологической стратификации Начальной летописи. Russian Linguistics 25.2, 147—181.
- Гиппиус А.А. 2012a. К реконструкции древнейших этапов истории русского летописания. Древняя Русь и средневековая Европа: возникновение государств: материалы конференции. Москва: Институт Всеобщей истории РАН, 41—50.
- Гиппиус А.А. 2012b. До и после Начального свода: ранняя летописная история Руси как объект текстологической реконструкции. В: Макаров Н.А. (ред.). Русь в IX—X веках: археологическая панорама. Москва; Вологда: Древности севера, 37—63.
- Дмитриевский А. 1904. Ставленник. Руководство для священно-церковно-служителей и избранных в епископа, при их хиротониях, посвящениях и награждениях знаками духовных отличий, с подробным объяснением всех обрядов и молитвословий. Киев: Типография Императорского университета св. Владимира.
- Жданов Р.В. 1939. Крещение Руси и Начальная летопись. Исторические записки 5, 3—30.
- Заболотский П. 1901. К вопросу об иноземных письменных источниках «Начальной летописи». В: Смирнов А.И. (ред.). Русский филологический вестник. Т. XLV. № 1—2. Варшава: Типография Варшавского учебного округа, 1—31.
- Иоанн Дамаскин, прп. 2009. Трактат о правомыслии (пер. с древнегреч. и примеч. А.Р. Фокина). Богословские труды 42, 8—14.
- Карпов А.Ю. 2014. Исследования по истории домонгольской Руси. Москва: Квадрига.
- Корогодина М.В. 2013. Принятие в православие в XIV—XV в.: письменная традиция и практика. Древняя Русь. Вопросы медиевистики 51, 98—107.
- Кузьмин А.Г. 1988. Крещение Руси: концепции и проблемы. В: Окулов А.Ф. (ред.). «Крещение Руси» в трудах русских и советских историков. Москва: Мысль, 3—56.
- Макарий, еп. 1857. История Русской Церкви. Т. 1. Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии Наук.
- Михеев С.М. 2011. Кто писал «Повесть временных лет»? Славяно-германские исследования 6.
- Неселовский А. 1906. Чины хиротесий и хиротоний (опыт историко-археологического исследования). Каменец-Подольск: Типография С.П. Киржацкого.
- Никольский Н.К. 1902. К вопросу об источниках летописного сказания о св. Владимире. Христианское чтение 7, 89—106.
- Никольский Н.К. 1906. Материалы для повременного списка русских писателей и их сочинений (X— XI вв.). Санкт-Петербург: Отделение русского языка и словесности Императорской академии наук.
- Никольский Н.К. 1907. Материалы для истории древнерусской духовной письменности. СОРЯС. Т. 82. № 4, 1—24.
- Новикова О.Л. 2013. Изборник 1073 г. и «Ефремовский сборник о латынех». Очерки феодальной России 16, 51—152.
- Павлов А.С. 1878. Критические опыты по истории древнейшей греко-русской полемики против латинян. Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии Наук.
- Петров А.Е. 2003. «Написание о вере» Троицкого сборника конца XII — XIII века: исторические и текстологические особенности. В: Тантлевский И.Р. (ред.). Метафизические исследования. Вып. 16. Христианство. Санкт-Петербург: Алетейя, 163—176.
- Петрухин В. 2006. Крещение Руси: от язычества к христианству. Москва: АСТ; Астрель.
- Пичхадзе А.А. 2011. Переводческая деятельность в домонгольской Руси: лингвистический аспект. Москва: Рукописные памятники древней Руси.
- Попов А. 1875. Историко-литературный обзор древнерусских полемических сочинений против латинян. Москва: Типография Т. Рис.
- Попов К.М. 1896. Чин священного коронования: (Исторический очерк образования чина): [Чин коронования в Византии]. Богословский вестник. Т. 2. № 4, 59—72.
- Попруженко М.Г. 1900. Синодик царя Бориса. Известия Русского археологического общества в Константинополе. Одесса: «Экономическая» типография.
- Попруженко М.Г. 1928. Синодик царя Борила. Български старини. Кн. VIII. София: Державна печатница.
- Потапов П.И. 1910. К вопросу о литературном составе летописи. Русский филологический вестник. Т. LXIII. № 1, 1—18.
- Похилько Н.П. 2016. «Речь философа» в Повести временных лет: вопрос функции и адресата. МАИАСП 8, 408—454.
- Похилько Н.П. 2019. «Изложение о православной вере» Михаила Синкелла в славянском переводе с «подобосущной» терминологией. Zeitschrift für Slavische Philologie 75.2, 297—346.
- ПСРЛ 3: Насонов А.Н. (ред.). 1950. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Москва; Ленинград: АН СССР.
- Рапов О.М. 1998. Русская церковь в IX — первой трети XII в. Принятие христианства. Москва: Русская панорама.
- Розов Н.Н. 1963. Синодальный список сочинений Илариона — русского писателя XI в. Slavia, casopis pro slovanskou filologii. Roc. XXXII. Ses. 2, 141—175.
- Серафимов А. (Сергий, еп.). 1904. О правилах и чинопоследованиях принятия неправославных христиан в православную церковь. Астрахань: Типография В.Л. Егорова.
- Софийский сборник 2013: Савельева Н.С. (ред.). 2013. Антология памятников литературы домонгольского периода в рукописи XV в. : Софийский сборник. Москва; Санкт-Петебург: Альянс-Архео.
- Сухомлинов М.И. 1856. О древней русской летописи, как памятнике литературном. Ученые записки Второго отделения Академии наук III, 65—71.
- Творогов О.В. 1974. Повесть временных лет и Хронограф по великому изложению. ТОДРЛ 28, 99— 113.
- Шахматов А.А. 2001. Разыскания о русских летописях. Москва: Академический Проект; Жуковский: Кучково поле.
- Щапов Я.Н. 1977. «Написание о правой вере» Михаила Синкелла в Изборнике 1073 г. и Древнеславянской кормчей Ефремовской редакции. В: Рыбаков Б.А. (ред.). Изборник Святославова 1073 г.: сборник статей. Москва: Наука, 332—341.
- Чичуров И.С. 2007. Антилатинский трактат киевского митрополита Ефрема (ок. 1054/55—1061/62 гг.) в составе греческого канонического сборника Vat. Gr. 828. Вестник ПСТГУ I. Богословие. Философия. Религиоведение 3(19), 107—132.
- Чумичева O.B. 2010. Иноверцы или еретики: понятие «жидовская мудрствующие» в полемическом контексте на Руси конца XI - начала XVI вв. Очерки феодальной России 14, 209—226.
- Яцимирский А.И. 1898. Из славянских рукописей. Тексты и заметки. Москва: Университетская типография.
- Cosmas Presbyter. 2006. Homily against the bogomils. Polata Knigopisnaia: An informational bulletin devoted to the study of early Slavic books, texts and literatures 33.
- Müller L. 1971. Die Werke des Metropoliten Ilarion. Eingeleitet, übersetzt und erläutert von Ludolf Müller. Forum Slavicum 37, 57—129.
- Popovski J., Thomson F.J., Veder W.R. 1988. The Troickij sbornik (Cod. Moskva, GBL, F. 304 (Troice-Sergieva Lavra) № 12): Text in transcription. Polata knigopisnaja: an Information Bulletin Devoted to the Study of Early Slavic Books, Texts and Literatures 21—22.
- Thomson F.J. 1991. Les cinq traductions slavonnes du Libellus de fide orthodoxa de Michel le Syncelle et les mythes de l'arianisme de saint Méthode, apôtre des Slaves, ou d'Hilarion, métropolite de Russie, et de l'existence d'une Église arienne à Kiev. Revue des études slaves. Vol. LXIII. Fasc. 1, 19—54.
- Veder W. 2017. At the Crossroads of Slavonic Compilations. Russian History 44, 298—313.