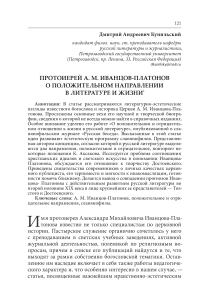Протоиерей А. М. Иванцов-Платонов о положительном направлении в литературе и жизни
Автор: Кунильский Дмитрий Андреевич
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.11, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются литературно-эстетические взгляды известного богослова и историка Церкви А.М. Иванцова-Платонова. Прослежены основные вехи его научной и творческой биографии, сведения о которой не всегда можно найти в справочных изданиях. Особое внимание уделено его работе «О положительном и отрицательном отношении к жизни в русской литературе», опубликованной в славянофильском журнале «Русская беседа». Высказанные в этой статье идеи развивают эстетическую программу славянофилов. Представленная автором концепция, согласно которой в русской литературе выделяются два направления, положительное и отрицательное, повторяет некоторые положения К. Аксакова. Исследуется проблема соотношения христианских идеалов и светского искусства в понимании Иванцова-Платонова, обсуждается его отношение к творчеству Достоевского. Приведены свидетельства современников о личных качествах церковного публициста, его терпимости и мягкости к инакомыслящим, готовности помочь ближнему. Делается вывод о совпадении прогнозов Иванцова-Платонова с действительным развитием русской литературы во второй половине XIX века в лице крупнейших ее представителей — Толстого и Достоевского.
А. м. иванцов-платонов, положительное и отрицательное направления, славянофилы
Короткий адрес: https://sciup.org/14748856
IDR: 14748856
Текст научной статьи Протоиерей А. М. Иванцов-Платонов о положительном направлении в литературе и жизни
Имя протоиерея Александра Михайловича Иванцова-Платонова известно не только специалистам по церковной истории. Пастырское служение органично сочеталось у него с преподаванием в светских учебных заведениях, активной журнальной деятельностью, полемикой по религиозным вопросам, причем в списке его публикаций найдутся и те, что выходят за рамки собственно богословской тематики. Оставленное им наследие включает в себя также работы педагогического характера и, что особенно интересно в нашем случае, — статьи, посвященные важнейшим нравственно-эстетическим проблемам. Однако столь очевидная значимость Иванцова-Платонова для понимания общественной жизни XIX в., взаимоотношений литературы и Церкви почему-то осталась обойденной в ряде авторитетных справочных изданий, хотя научный интерес к этому автору, начавшийся еще в позапрошлом столетии, не угасает до сих пор.
Несмотря на подробную информацию об Иванцове-Платонове, помещенную в «Православной энциклопедии» [2, 677—682], упоминание его в собственно литературоведческих трудах, ощущается некоторая лакуна, свидетельствующая о неполном введении книг и статей церковного автора в научный обиход. К примеру, в словаре «Русские писатели. 1800—1917» сведения о нем почему-то отсутствуют. Трудно объяснить такой досадный пробел, ведь биография этого ученого, богослова и публициста весьма примечательна.
Сын священника Александр Михайлович Иванцов-Платонов (1835—1894) получил многоступенчатое религиозное образование — от Курского духовного училища и семинарии до Московской академии. За отличную учебу в последней награжден прибавлением к фамилии — Платонов, как стипендиат митрополита Платона (Левшина). Дальнейшая судьба Иванцова-Платонова была связана с преподаванием: в разное время он трудился в Санкт-Петербургской духовной академии, Александровском военном училище, Московском университете. В студенческие годы знакомится со славянофилами и затем поддерживает дружеские отношения с И. С. Аксаковым, публикуясь в его изданиях1. В журнале «Православное обозрение», соредактором которого он был, Иванцов-Платонов напечатал переписку А. С. Хомякова с английским богословом Пальмером. Кроме выступлений в периодической печати, Иванцов-Платонов занимается научной деятельностью, за работу «Ереси и расколы первых веков христианства» (1877) получает степень доктора богословия.
Сближению с кружком славянофилов способствовала дебютная статья молодого автора — «О положительном и отрицательном отношении к жизни в русской литературе», которая представляла собой студенческое семестровое сочинение.
Бывший в ту пору негласным редактором «Русской беседы» Иван Аксаков, прочитав названную работу, сам предложил напечатать ее в журнале2. Это обстоятельство тем более показательно, если учесть особую щепетильность славянофилов, не раз проявленную ими при отборе материалов для журна-ла3. Идеи, высказанные Иванцовым-Платоновым, соответствовали «славянофильскому мирочувствию» (В. Ф. Эрн), можно сказать, проистекали из него и одновременно развивали эстетическую программу славянофилов. Неслучайно работу церковного автора не раз привлекали для общей характеристики литературно-эстетических взглядов славянофильства [9, 270—279], [15, 333—336]. Нас преимущественно будет интересовать христианская основа концепции Иванцова-Платонова, редко когда упоминавшаяся исследователями. Но без разбора всей статьи, пусть и предельно сжатого, эти идеи, наверное, лишаются своей литературной актуальности и важности.
Статья Иванцова-Платонова носит программный, теоретический характер и в этом смысле опирается на традиционную для славянофилов историко-литературную концепцию. В своем труде молодой автор обосновывает необходимость сочувственного изображения русской действительности, предлагает ценить то хорошее, что в ней есть, а не сокрушаться по поводу ее несоответствия жизни европейских народов. Такой терпимостью его позиция несколько отличалась от славянофильской, но расхождения были не столь серьезны, и редакция в лице Ивана Аксакова ограничилась лишь особым примечанием.
Главная проблема отечественной литературы видится Иванцову-Платонову в недостатке положительных образов и вообще идеального изображения русского быта. Причину такого, казалось бы, удручающего положения автор находит в самом происхождении русской литературы, в ее подражательном характере (об этом много размышляли и другие авторы славянофильского направления, в том числе и на страницах «Русской беседы»).
Нашим писателям, считает Иванцов-Платонов:
До сих пор удавалось схватывать и изображать только дурные, темные стороны Русского человека, так называемые отрицательные явления Русской жизни [1, 1].
Поэтому «сатирический род искусства», представленный творениями Фонвизина, Гоголя, Щедрина, составляет не только главное, но, к сожалению, едва ли не единственное богатство Русской литературы [1, 1].
Отрицание, как всегда, в первую очередь, привлекло молодые умы — и сам еще совсем юный автор не без сожаления констатирует, что большинство начинавших в сороковые годы литераторов пошло «по направлению, указанному сатирою Гоголя». Под этими последователями Гоголя имелась в виду, конечно, натуральная школа; ее деятельность, в конце концов, привела к весьма серьезным последствиям:
Публика Русская, обольщенная успехами нового сатирического направления, перестала почти верить в возможность идеала Русской жизни, и стала с недоверчивостию смотреть на все попытки к его художественному осуществлению [1, 3].
Но всякая жизнь, как убедительно показывает Иванцов-Платонов, имеет в себе положительные основания, и дело художника увидеть в ней светлые моменты вопреки всем трудностям и господствующему настроению общества. Этому вопросу посвящена теоретическая часть его статьи, где объясняется различное отношение поэта к изображаемой действительности:
Если явления жизни действительной отвечают идеалам поэта, — поэт примиряется с жизнью во имя своих идеалов, и в явлениях ее находит формы для воплощения их; здесь открывается место положительному воззрению и положительному изображению жизни. Если жизнь не отвечает идеалам поэта, он отрицает ее во имя своих идеалов, и изображением явлений ее показывает только противоречие между жизнью и идеалами; является отрицательное (комическое, сатирическое) воззрение и изображение жизни [2, 6].
Объективность исследователя сочетается здесь с недвусмысленной авторской позицией: сам Иванцов-Платонов склоняется к первому пути, ведь именно
…положительное изображение жизни в области искусства занимает высшее место, нежели отрицательное <…> оно полнее выражает истину жизни, а <…> жизнь, что бы ни говорили пессимисты, прекрасна и разумна [1, 5].
Конечно, церковный автор не мог пройти мимо проблемы осуществления христианского идеала в обычной жизни, тем более что заведомая недостижимость такого идеала давала повод для отрицательного мировосприятия. Подобная установка способна привести к отрицанию земной жизни людей, в общем-то далеких от нигилизма, людей, которые во имя своего понимания Божественной истины излишне строго оценивают собственные недостатки и слабости ближних, государственные порядки и произведения искусства — как недостойные заботы христианина.
Русский дух, говорят, — передает эту точку зрения Иванцов-Платонов, — носит в себе такой высокий идеал жизни, которому не может удовлетворить никакая действительность. Некоторые прибавляют к тому, что идеал этот воспитала в нашем народном духе Христианская религия, слишком глубоко проникшая в его природу. От этого будто образовалось в Русском народе всегдашнее недовольство своею настоящею действительностию, непрестанное стремление вперед к чему-то высшему, коренная добродетель Русского народа — смирение. От этого Русский человек всегда более обращает внимание на свои недостатки, нежели на хорошие свойства [1, 26—27].
Отчасти это так, признает Иванцов-Платонов, ведь
…ни один человек, на какой бы высоте нравственного совершенства ни стоял он, не может осуществить в своей жизни бесконечный идеал святости и правды Божественной [1, 8].
Но сам он склоняется к другой трактовке вопроса, вдохновлявшей на творчество многих русских писателей, из которых особенно близким Иванцову-Платонову окажется Достоевский.
Через много лет после публикации этой статьи Иванцов-Платонов будет поражен художественным воплощением своих заветных мыслей в романе «Братья Карамазовы», — он напишет Достоевскому письмо, где поблагодарит писателя за проникновенное изображение «высших сторон духовной жизни». По мнению автора письма, так верно и «сердечно» представить христианский идеал, как это делает в своих произведениях Достоевский, не удавалось «еще ни одному из поэтов и романистов русских (кажется — и иностранных)» [6]4. К сожалению, Иванцов-Платонов не оставил развернутого отзыва о творчестве Достоевского, хотя такое намерение у него было. Но догадаться, почему «Братья Карамазовы» столь сильно повлияли на церковного публициста, не составляет большой сложности: достаточно сопоставить некоторые фрагменты статьи «О положительном и отрицательном отношении к жизни в русской литературе» и поучения старца Зосимы, в которых выразилась наиболее близкая Иванцову-Платонову сторона христианства.
Радостному человеколюбию Зосимы («Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие божеской любви и есть верх любви на земле»5 (XIV, 289)) соответствует морально-эстетическое убеждение Иванцова-Платонова в том, что
…возвышаться над действительностию жизни, стремиться к высшему идеалу, и в то же время с снисходительностию и любо-вию смотреть на жизнь и людей — именно в духе Христианской религии [1, 28].
Автор вынужден опровергать мнение, согласно которому сатирическое воспроизведение жизни связывается с постоянной неудовлетворенностью, вызванной, кроме других причин, и христианской проповедью смирения. Увлеченность читателей сатирическими произведениями Иванцов-Платонов объясняет не «потребностью самоосуждения и назидания» — иначе «давно не было бы в нашем обществе тех недостатков, против которых так сильно ратует наша сатира», — а способностью Щедрина и Мельникова-Печерского писать «весьма забавно, а по местам чересчур открыто и скандалезно». С точки зрения человека, профессионально занимающегося богословием, каким тогда собирался стать автор статьи, сатира «всего более и не согласна с духом Христианского смирения» [1, 29].
Любовное отношение к жизни и людям, подчеркивает Иванцов-Платонов, не зависит от материального благополучия; напротив, излишняя обеспокоенность вещным миром отдаляет человека от положительных ценностей.
С лихорадочной поспешностию трудясь над изобретением новых начал, форм и средств жизни, современный человек ни на чем не успокаивается, непрестанно переходит от приобретения к новому приобретению [2, 34].
Вспоминаются мудрые слова Зосимы:
И достигли того, что вещей накопили больше, а радости стало меньше 6 .
Это, конечно, не значит, что писавший позже Достоевский использовал давнюю статью Иванцова-Платонова: и в том и в другом текстах прозвучали общие для христианства идеи. Приведенные совпадения объясняют, что именно было близко церковному автору в произведениях Достоевского, «давним любителем и почитателем» которых называл себя Иванцов-Платонов [6, 226].
Как и следует человеку, отстаивающему положительные идеалы, Иванцов-Платонов, конечно, уверен в преодолимо-сти негативного настроя общества и литературы, явившегося следствием петровских реформ, в результате которых русский человек оказался «в отрицательном отношении к своей народной жизни», отвергнув ее «во имя начал и свойств Европейских» [1, 31, 42]. Основания для своих надежд автор видит в творчестве лучших русских писателей — большинство из них оцениваются как «поэты с преобладающим положительным воззрением на жизнь». При этом названы имена Ломоносова, Державина, Карамзина, Жуковского, Пушкина, Кольцова, говорится о близости к положительному мироощущению Лермонтова и Гоголя [1, 30].
Столь одобрительные оценки русской литературы серьезно отличали позицию Иванцова-Платонова от литературно-критических взглядов славянофильства, на что обратил внимание Б. Ф. Егоров: «Славянофилы, как правило, рассматривали положительные элементы лишь в произведениях очень ограниченного круга писателей (Гоголь, С. Аксаков, Н. Кохановская, "свои" поэты), а Иванцов-Платонов включает в эту сферу почти всех крупных русских писателей XVIII — XIX вв.» [4, 163]. Более «славянофильской» в этом отношении выглядит статья другого автора «Русской беседы» Н. П. Гилярова-Платонова, указавшего на фактическое отсутствие в отечественной литературе положительных художественных типов [10]7.
Различие в частностях не помешало авторам прийти к схожим выводам — оба констатируют отрицательный настрой литературы, но в то же время с оптимизмом смотрят вперед. Гиляров-Платонов надеется, что появление «Семейной хроники» С. Т. Аксакова свидетельствует о новом пути русского искусства, отдельные представители которого делают «попытки отрешиться от голого отрицания, и вследствие того изменить самую точку зрения» [10, 20]. Рождение по-настоящему положительной литературы, считает Иванцов-Платонов, сопряжено с выполнением ряда задач; решить их еще предстоит национальному самосознанию. Прежде всего, усвоенные ранее общечеловеческие элементы должны принять сообразную русским условиям форму. Вместе с тем необходимо добиться «полного и цельного уразумения» родной жизни, без чего также нельзя понять и оценить все ее положительные стороны. И наконец, сама русская действительность будет меняться в лучшую сторону — тогда в ней «откроется более предметов для ‹…› идеального изображения». Все это может произойти в ближайшем будущем, на что указывают
…некоторые прекрасные задатки мирного идеального изображения нашей народной жизни [1, 46] 8 .
Сам Иванцов-Платонов делал все от него зависящее, чтобы настроить русское общество на созидательную работу: он регулярно публиковался в периодических изданиях (аксаковские «День» и «Русь», «Православное обозрение»), издавал книги, адресованные молодым людям9, участвовал в различных церковно-общественных организациях, помогавших студентам и выпускникам Московской духовной академии, их родственникам, в Славянском благотворительном комитете, на что нередко тратил немалые средства из собственных сбережений. Особенно интересно, как, по свидетельству современников, известный ученый и публицист воплощал свои идеалы в непосредственном человеческом общении. Все писавшие об Иванцове-Платонове отмечали его терпимость, мягкость по отношению к другим людям, стремление помочь даже тем, кто стоял на противоположных религиозных и идеологических позициях. «В течение 34-летней нашей дружбы, после бесчисленных и продолжительных бесед, — вспоминал протоиерей Г. П. Смирнов-Платонов, — я убедился, что его личным руководящим правилом было — сходиться с людьми только с их добрых сторон и действовать только на их добрые начала, оставляя в стороне и игнорируя все, что составляет темные качества личности» [12, 786].
И это привлекало к Иванцову-Платонову очень разных людей — от славянофилов до Льва Толстого и Владимира Соловьева, напечатавшего в «Вестнике Европы» сочувственный некролог, посвященный почившему богослову [13].
Но и в литературной критике Иванцов-Платонов показал себя не менее терпимым, а главное, проницательным. Положительные идеи славянофилов — порой категоричные, порой излишне абстрактные, которые так глубоко развивал церковный автор в своей работе о положительном и отрицательном, были творчески восприняты русской литературой. Здесь можно назвать роман Толстого «Война и мир» с его «смиренными» героями и эпическим воспроизведением русской жизни («Это — действительное неслыханное явление, — удивлялся Н. Страхов, — эпопея в современных формах искусства» [14, 335]), или образы Алеши и Зосимы у До-стоевского10. Появление такого рода героев и предсказывал Иванцов-Платонов в первой своей статье.
Примечания
Статья подготовлена в рамках реализации комплекса мероприятий Программы стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 гг.
Впоследствии Иванцов-Платонов становится духовником Ивана Аксакова и его жены Анны Федоровны, в девичестве — Тютчевой. См. [7, 49—60].
К слову, и в замечательной недавно вышедшей книге, посвященной «Русской беседе», об Иванцове-Платонове говорится не так много. См. [11, 179, 536].
Известно, что для славянофилов первостепенное значение имела содержательная сторона произведения, его идейная направленность. Напротив, даже самые высокохудожественные вещи могли быть забракованы в случае их несоответствия духу партии. «‹…› Мы желаем, — писал И. С. Аксаков графу А. К. Толстому, — чтобы каждая строка нашего журнала била в известную цель, пела в общем хоре, действовала благотворно на читателя. Исполняется ли это нами — другой вопрос, но таково желание "Р. Беседы", так я намерен действовать в "Парусе"» [8, 442—443].
Интересно, что взгляды Иванцова-Платонова на искусство, по крайней мере, как они выразились в статье 1859 г., не предвещали полного приятия романов Достоевского. Во-первых, церковный ав- тор критиковал натуральную школу, творческие принципы которой оказали определенное влияние на Достоевского. Во-вторых, обращает на себя внимание характеристика романного жанра, предложенная в работе «О положительном и отрицательном отношении…»: вслед за К. Аксаковым Иванцов-Платонов определил роман как «какую-то составную, смешанную, эклектическую форму, совместившую в себе свойства и требования почти всех чистых форм искусства, и потому самому не удержавшую эстетических достоинств ни одной из них», и противопоставил ей древний эпос [2, 37]. Таким образом, Иванцов-Платонов мог пойти по чисто славянофильскому пути, но все сложилось несколько иначе.
Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1972—1990. Т. 14. С. 285.
Иванцов-Платонов — по сути, единственный из прославянофиль-ских авторов, кто признал бесспорное значение «Братьев Карамазовых» и других произведений Достоевского. В окружении И. Аксакова «Братьям Карамазовым» давались, в основном, критические и умеренные оценки, а сам Аксаков занимал некое срединное положение.
Сходство фамилий объясняется принадлежностью литераторов к церковной среде и, как уже говорилось, отличной учебой в Московской Духовной академии. Религиозную направленность «Рус- ской беседы», «которая ‹…› едва ли не будет журналом Троицкой Лавры», еще в 1856 г. иронично предсказывал Ап. Григорьев [3, 379].
-
9 Надо сказать, что и в дальнейшем славянофилы весьма настороженно относились к попыткам изображения положительного в литературе (длительное молчание о произведениях Достоевского, а потом крайне разнородные отклики в «Руси» подтверждают это). «‹…› Отрицательное отношение к жизни в искусстве, — писал И. Аксаков под впечатлением крестьянской реформы, — уже отжило свое время, а для положительного отношения мы, современники, уже не годимся ‹…›» ( Письмо И. С. Аксакова к Ю. Ф. Самарину от 6—8 марта 1861 г. // ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. Ед. хр. 48. Л. 22). Хотя Иванцов-Платонов также не видит поистине положительных образов у современных писателей, все сказанное им о русской литературе проникнуто верой в ее скорейшее развитие, ведущее к идеальным картинам народного быта.
-
10 Для будущих офицеров, например, Иванцов-Платонов издал несколько книг, одна из которых называлась «Что такое жизнь?» [5].
-
11 Ср. с записью в рабочей тетради Достоевского: «Я Макара, Лев Толстой Каратаева. Вот сущность славянофильства» (24, 146).
Dmitry Andreevich Kunil'sky
Список литературы Протоиерей А. М. Иванцов-Платонов о положительном направлении в литературе и жизни
- Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л.: Наука, 1972-1990. Т. 14. С. 285.
- Письмо И. С. Аксакова к Ю. Ф. Самарину от 6-8 марта 1861 г.//ИРЛИ. Ф. 3. Он. 2. Ед. хр. 48. Л. 22.
- А. И. -Ц. О положительном и отрицательном отношении к жизни в русской литературе//Русская беседа. 1859. Кн. I (XIII). Критика. С. 1-46.
- Богданова Т. А., Дубинский А. Ю., Литвинова Л. В. Иванцов-Платонов Александр Михайлович//Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2009. Т. XX С. 677-682.
- Григорьев А. А. Сочинения: В 2-х т. М.: Худож. лит., 1990. Т. 2. 510 с.
- Егоров Б. Ф. А. М. Иванцов-Платонов -ученый, публицист, литературный критик//Поиск смысла: Сб. ст. Нижний Новгород: Нижегор. гос. пед. ин-т иностр. языков, 1994. С. 160-170.
- Иванцов-Платонов А. М., прот. Что такое жизнь? На память воспитанникам 4-го выпуска Александровского военного училища от законоучителя священника А. М. Иванцова-Платонова. М.: Унив. тип., 1867. 70 с.
- Иванцов-Платонов А. М., прот. За третье десятилетие священства (1883-1893). Слова, речи и некоторые статьи заслуженного проф. Моск. ун-та прот. А. М. Иванцова-Платонова. Сергиев Посад: 2-я типография А. И. Снегиревой, 1894. 238 с. Д. А. Кунильский
- Иванцов-Платонов А. М. Письмо к Достоевскому от 20 декабря 1880 г.//Достоевский. Материалы и исследования. СПб.: Наука, 1992. Т. 10. С. 226-227.
- Из дружеской переписки гр. А. К. Толстого//Вестник Европы. 1905. Октябрь. Кн. 10. С. 442-443.
- Литературные взгляды и творчество славянофилов (1830-1850-е годы). М.: Наука, 1978. 504 с.
- Н. Г-в Семейная хроника и Воспоминания С. Аксакова//Русская беседа. 1856. Кн. I. Критика. С. 1-69.
- «Русская беседа»: История славянофильского журнала: Исследования. Материалы. Постатейная роспись/Под ред. Б. Ф. Егорова, А М. Пентковского и О. Л. Фетисенко. СПб.: Пушкинский Дом, 2011. 568 с.
- Смирнов-Платонов Г. П., прот. Памяти протоиерея А. М. Иванцова-Платонова//Вопросы философии и психологии. 1894. Кн. 25 (5). Ноябрь. С. 784-787.
- Соловьев Вл. Профессор протоиерей А. М. Иванцов-Платонов//Вестник Европы. 1894. Кн. 12. С. 893-894.
- Страхов Н. Н. Литературная критика. М.: Современник, 1984. 431 с.
- Янковский Ю. 3. Патриархально-дворянская утопия. М.: Худож. лит., 1981. 373 с.
- A. I. -C. About positive and negative attitude towards life in Russian literature [O polozhitel'nom i otricatel'nom otnoshenii к zhizni v russkoy literature]. Russkaya Beseda, 1859, vol. 1 pp. 1-46.
- Bogdanova T. A., Dubinskiy A.Yu., Litvinova L.V. Ivantsov-Platonov Aleksandr Mikhaylovich. Pravoslavnaya Entsyklopediya [Orthodox Encyclopedia]. Moscow, Tserkovno-nauchniy tsentr PubL, 2009, vol. 20, pp. 677-682.
- Grigor'ev A.A. Sochineniya [The Works]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura PubL, 1990, vol. 2. 510 p.
- Egorov B. R A. M. Ivantsov-Platonov -Scientist, Publicist and Literary Critic [A.M. Ivantsov-Platonov-uchenyy, publitsyst,literaturnyykritik]. Poisk smysla. Nizhniy Novgorod, Nizhegor. gos. ped. in-t inostr. yazykov PubL, 1994, pp. 160-170.
- Ivantsov-Platonov A. M., What is life? To the graduates of Alexander Military Academy from the catechist priest A. M. Ivantsov-Platonov [Chto takoe zhizn? Na pamyat' vospitannikam 4-go vypuska Aleksandrovskogo voennogo uchilishcha ot zakonouchitelya svyashchennika A. M. Ivantsova-Platonova]. Moscow, Moscow State University. PubL, 1867. 70 p.
- Ivantsov-Platonov A. M. The third decade of the priesthood (1883-1993). Adresses, speeches and some articles by the honorary professor of Moscow University, archpriest A. M. Ivantsov-Platonov [Za tret'ye desyatiletiye svyashenstva (1883 The third decade of the priesthood (1883-1993). Adresses, speeches and some articles by the honorary professor of Moscow University, archpriest A.M. Ivantsov-Platonov 1883-1993). Slova, rechi i nekotorye statT zasluzhennogo prof. Mosc. un-ta prot. A. M. Ivantsova-Platonova]. Sergiev Posad, 2-ya tipographiya A. I. Snegirevoy PubL, 1894. 238 p.
- Ivantsov-Platonov A. M., prot. Letter to F. M. Dostoevskiy of December 20, 1880 [Pis'mo к R M. Dostoevskomu ot 20 dekabrya 1880]. Materials and Research [Dostoevskiy. Materialy i issledovaniya]. Saint-Petersburg, Nauka PubL, 1992, vol. 10, pp. 226-227. Д. А. Кунильский
- From friendly correspondence of count A.K. Tolstoypz druzheskoy perepiski gr. A. K. Tolstogo]. Vestnik Evropy, 1905, vol. 2, pp. 442-443.
- The Slavophiles' literary views and creative works (1830-1850) [Literaturnye vzglyady i tvorchestvo slavyanofilov (1830-1850 gody)]. Moscow, Nauka PubL, 1978. 504 p.
- N. G-v Family chronicle and memoirs of S. T. Aksakov [Semeynaya khronika i Vospominaniya S.T. Aksakova]. Russkaya Beseda, 1856, vol. 1. Kritika, pp. 1-69.
- Russkaya Beseda: The History of the Slavophil Periodical. Studies. Materials. List of articles ["Russkaya Beseda": Istoria slavyanofil'skogo zhurnala: Issledovaniya. Materialy Postateynaya rospis']. Saint-Petersburg, Pushkinskiy Dom PubL, 2011. 568 p.
- Smirnov-Platonov G. P., prot. To the memory of archpriest A.M. Ivantsov-Platonov [Pamyati protoiereya A. M. Ivantsov-Platonova]. Voprosy filosofii ipsikhologii, 1894, vol. 25 (5), pp. 784-787.
- Solov'ev Vladimir. Professor and archpriest A. M. Ivantsov-Platonov [Professor protoierey A. M. Ivantsov-Platonov]. Vestnik Evropy, 1894, vol. 12, pp. 893-894.
- Strakhov N. N. Literary criticism [Literaturnaya kritika]. Moscow, Sovremennik PubL, 1884. 431 p.
- Yankovskiy Yu. Z. Patriarchal nobleman's Utopia [Patriarkhal'nodvoryanskaya utopiya]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura PubL, 1981. 373 p