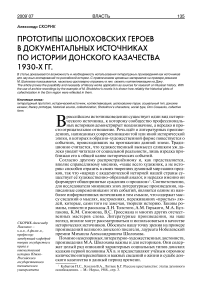Прототипы шолоховских героев в документальных источниках по истории донского казачества 1930-х гг
Автор: Скорик Александр Павлович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 7, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье доказывается возможность и необходимость использования литературных произведений как источников для научных исследований по российской истории. С привлечением архивных материалов на примере романов М. Шолохова показывается, насколько достоверно отражены в них сюжеты коллективизации на Дону.
Литературный прототип, исторический источник, коллективизация, шолоховские герои, социальный тип, донские казаки
Короткий адрес: https://sciup.org/170164923
IDR: 170164923
Текст научной статьи Прототипы шолоховских героев в документальных источниках по истории донского казачества 1930-х гг
В российском источниковедении существует один вид исторического источника, к которому сообщество профессиональных историков демонстрирует неоднозначное, а нередко и просто отрицательное отношение. Речь идёт о литературных произведениях, написанных современниками той или иной исторической эпохи, в которых в образно-художественной форме повествуется о событиях, происходивших на протяжении данной эпохи. Традиционно считается, что художественный вымысел слишком уж далеко уводит читателя от социальной реальности, лишь изредка приближая его к общей канве исторических событий.
СКОРИК Александр Павлович – к.и.н., д.филос.н., профессор;
заведующий кафедрой теории государства и права и отечественной истории ЮжноРоссийского государственного технического университета
Согласно другому распространённому и, как представляется, вполне справедливому мнению, «чаще всего художник, а не историк» способен отразить в своих творениях духовный мир наших предков, так что «наряду с академической историей нашей страны существует её художественно-образный аналог, и нередко именно он формирует общепринятые суждения о прошлом»1. Соответственно, для исследователя минувших эпох литературные произведения, написанные современниками этих событий, являются одним из наиболее информативных источников в том смысле, что содержат массу сведений о мыслях, настроениях, переживаниях «простых» людей, которые, сами того не замечая, творили историю. Таковы романы, повести и рассказы Л.Н. Толстого, А.М. Горького, М.А. Булгакова, К.М. Симонова, В.С. Гроссмана и многих других отечественных мастеров слова. Литературные произведения, на наш взгляд, вполне могут рассматриваться и использоваться в качестве исторических источников. Обоснуем нашу точку зрения на примере произведений великого донского писателя, лауреата Нобелевской премии Михаила Александровича Шолохова.
Помимо неоспоримых литературно-художественных достоинств, произведения М.А. Шолохова важны и для историков. Они содержат целый ряд описаний характерных социальных типов донских казаков первой половины XX в. и предоставляют учёным огромное количество интереснейших и важных сведений о жизни и судьбе дон ского казач ества в данный период времени.
1 Кабытов П.С., Козлов В.А., Литвак Б.Г. Русское крестьянство: этапы духовного освобождения. – М.: Наука, 1988., стр. 3.
Критическое отношение историков к тем или иным литературным произведениям, обусловленное правом художника на вольное переосмысление и изложение фактов и событий, в случае с М.А. Шолоховым вполне может быть развеяно обращением к другим источникам, и прежде всего – к архивным материалам. Сопоставление документов и архивных материалов с произведениями М.А. Шолохова даёт нам основания утверждать, что последние зачастую документально точны и соответствуют исторической действительности даже в мельчайших деталях. Указанное обстоятельство максимально приближает по степени достоверности творения донского писателя, в частности посвящённую коллективизации «Поднятую целину», к комплексу исторических источников.
Следует отметить, что высокий уровень исторической достоверности «Поднятой целины», повествующей о коллективизации на Дону (точнее, в Вёшенском районе Северо-Кавказского края) вполне объясним. Ведь М.А. Шолохов, постоянно проживая в станице Вёшенской, не являлся сторонним наблюдателем противоречивых, порой трагических событий, происходивших в конце 1920-х – начале 1930-х гг. Его яркие очерки о ходе «колхозного строительства» и критические замечания о негативных явлениях в функционировании донских колхозов публиковались в периодических изданиях. Так, в прессе были опубликованы написанные в 1931– 1933 гг. очерки «По правобережью Дона», «За перестройку», «Преступная бесхозяйственность», «Результат непродуманной работы». О тяжёлом положении донских колхозов и о чудовищном беспределе, творимом представителями власти по отношению к колхозникам, М.А. Шолохов писал лично И.В. Сталину, надеясь найти понимание и защиту у вождя1.
Более того, писатель входил в состав бюро Вёшенского райкома ВКП(б) и неоднократно принимал участие в его заседаниях, о чём свидетельствуют архивы райкома, хранящиеся в Центре документации новейшей истории Ростовской области (ЦДНИ РО, ф. 36). Естественно, его личные наблюдения становились материалом для литературных произведений, в первую очередь для романа «Поднятая целина» (который, как известно, Шолохов хотел назвать иначе – «С потом и кровью», но этому воспротивилась цензура). Собственно, сам роман, как справедливо замечает известный донской исследователь А.И. Козлов, представлял собой «тщательно замаскированный диалог [М.А. Шолохова] со Сталиным по истории кол-лективизации»2, в котором писатель взял на себя смелость откровенно высказаться по многим табуированным вопросам «колхозного строительства» и осудить (не подвергая сомнению сам принцип коллективного труда) широко практиковавшееся властью насилие над крестьянством и казачеством.
Даже те сюжеты из «Поднятой целины», которые кажутся писательской фантазией, находят подтверждение в документах. В сюжете с кражей сена у колхозников Гремячего Лога казаками-колхозниками из сельхозартели «Красный луч» Тубянского хутора писатель отразил действительные случаи, имевшие место в донских колхозах в начале 1930-х гг. и даже позже. В июне 1935 г. первый секретарь Вё-шенского райкома ВКП(б) П.К. Луговой довёл до сведения членов бюро райкома сообщение «о хищении сена в колхозах колхозами», указывая, что «ряд руководителей колхозов сознательно производят хищение сена с гумён соседних полей других кол-хозов»3.
Очень точно М.А. Шолохов отразил в своих произведениях и всеобщее доносительство, принимавшее в 1930-х гг. характер эпидемии (в немалой степени из-за того, что донос превращался в удобное средство сведения личных счётов). Здесь сразу вспоминаются начальные страницы глав из романа «Они сражались за Родину», где писатель, описывая доносительство – эту «кровную месть по-советски», опять-таки ничего не выдумал. Ведь ещё в марте 1927 г. представители руководства Донского округа Северо-Кавказского края, оценивая масштабы «чисток» районных парторганизаций, признавали: «У нас беднота ищет в деревне чистоты, ультра-левые настроения имеют место… [поэтому] наши коммунисты не удерживались [от доносов] и карандашом злоупотребляли»4. По всей видимости, прозвище «карандашники» появилось на Дону раньше «великого перелома» и «прилипло» к жителям многих местных хуторов, сёл и станиц. Ведь едва ли не каждого казака можно было обвинить в том, что если не он сам во время Гражданской войны сражался против «красных», то его отец, брат, племянник или ещё какой-нибудь родственник. А в ноябре 1937 г. в ходе подготовки к выборам в Верховный Совет СССР работники райкомов ВКП(б) Ростовской области неоднократно докладывали о том, что в донских хуторах и станицах проживает значительное количество казаков, которые «служили у белых», «были замешаны с белогвардейцами».
Сопоставляя творения М.А. Шолохова и архивные материалы, необходимо затронуть вопрос не только о предметах или фактах жизнедеятельности донских казаков 1930-х гг., но и о самих казаках, запечатлённых их великим земляком. Как известно, герои произведений М.А. Шолохова, в том числе и «Поднятой целины», зачастую имеют реальные прототипы. Полного сходства в данном случае, конечно, искать не следует, ибо лишь сам художник волен определять и образы литературных персонажей, и их судьбу. Среди положительных героев «Поднятой целины» одним из ведущих является, как известно, бывший матрос, рабочий-двадцатипятитысячник Путиловского завода Семён Давыдов, которому М.А. Шолохов откровенно симпатизирует. Между тем один из главных прототипов Давыдова – А.А. Плоткин, подобно многим другим колхозным управленцам, был не чужд злоупотреблениям властью. В частности, 12 сентября 1936 г. бюро Вёшенского райкома заслушало «информацию тов. Тимченко об избиении колхозников председателем колхоза им. Будённого тов. Плоткиным». Присутствовавшие на бюро члены райкома (среди которых указан и Шолохов) расценили эти действия «как грубое возмутительное издевательство над колхозниками[,] как перегиб и произвол». Было указано, что «это могло явиться в результате оголтелого администрирования со стороны Плоткина, забвения массово-политической работы с колхозниками, несмотря на неоднократные указания со стороны Бюро РК ВКП(б)» (иными словами, это был не первый случай превышения Плоткиным своих полномочий). Райком принял решение снять А.А. Плоткина с поста председателя колхоза, исключить из членов коммунистической партии и дело на него передать в суд1. Правда, уже в июле 1937 г. А.А. Плоткин был восстановлен в рядах ВКП(б) на том основании, что избитые им колхозники якобы являлись «вредителями» и сами спровоцировали его на противоправные действия.
Но вне зависимости от причин откровенного рукоприкладства, для нас важен тот факт, что «братишка» Семён Давыдов выглядит в «Поднятой целине» гораздо более симпатичным человеком, чем его исторический прототип.
В то же время, несмотря на различия между героями «Поднятой целины» и их прототипами, писатель совершенно верно отобразил в своих персонажах то типическое, что было присуще в 1930-х гг. донским казакам-колхозникам – как рядовым, так и входившим в состав колхозной администрации и состоявшим в ВКП(б). Он отразил особенности их образа мышления, стиля поведения, внешнего облика. Даже, казалось бы, и вовсе фантастический сюжет из «Поднятой целины», где Макар Нагульнов отчаянно пытается учить английский язык в ожидании «мировой революции», находит подтверждение в исторических источниках. Заявляла же в 1936 г. некая колхозница П.А. Александрова: «Очень хочу изучить какой-нибудь язык. – Кругом нашей земли враги, надо знать их язык»2.
В целом, вполне обоснованным и справедливым представляется вывод о том, что литературные произведения М.А. Шолохова, несмотря на закономерно присущий им элемент художественного вымысла, глубоко историчны и довольно достоверно отражают социально-экономические и общественно-политические про цессы, про ходившие на Дону в 1930-х гг.