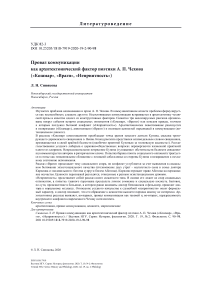Провал коммуникации как архитектонический фактор поэтики А. П. Чехова ("Кошмар", "Враги", "Неприятность")
Автор: Синякова Людмила Николаевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.19, 2020 года.
Бесплатный доступ
Изучается проблема непонимания в прозе А. П. Чехова. В коммуникативном аспекте проблема формулируется как неспособность слышать другого. Несостоявшаяся коммуникация встраивается в архитектонику чеховской прозы в качестве одного из конструктивных факторов. Сюжетно три анализируемых рассказа организованы вокруг события встречи социальных оппонентов («Кошмар», «Враги») или поисков правды, толчком к которым послужил бытовой конфликт («Неприятность»). Архитектонически повествование реализуется в поляризации («Кошмар»), аннигиляции («Враги») и изоляции ценностей персонажей в коммуникации (потенциальном диалоге). В рассказе «Кошмар» композиционно преобладает точка зрения земского деятеля Кунина, свысока третирующего деревенского священника о. Якова. Конец рассказа представлен исповедальным словом священника, признающегося в своей крайней бедности (ошибочно принятой Куниным за «поповскую жадность»). Разглагольствования уездного либерала о церковно-общественных вопросах опровергаются жизненной практикой одного из клириков. Непродолжительное потрясение Кунина («узнавание» обстоятельств бедности священника) комментируется автором в риторическом ключе. Попытка барина понять социального оппонента трактуется в статье как эмоциональное сближение с позицией собеседника со стороны Кунина и возвращение к исходному состоянию непонимания. Рассказ «Враги» продолжает тему социального спора, но конфликт углубляется за счет выявления в социальном бытовании экзистенциального качества (столкновение двух утрат - малолетнего сына в семье доктора Кирилова и «водевильного» бегства супруги богача Абогина). Кирилов отрицает право Абогина на переживание несчастья. Ценности персонажей расходятся, отнесенные к разным экзистенциальным уровням. «Неприятность» представляет собой рассказ иного сюжетного типа. В основе его лежит не спор социальных оппонентов, а попытка главного персонажа преодолеть личное сомнение и социальную косность. Бытовое, по сути, происшествие в больнице, в котором равно виноваты доктор Овчинников и фельдшер, приводит доктора к моральному коллапсу. Отношение уездного начальства к служебной «неприятности» носит формальный характер, и доктор понимает, что его обращение к ценностям высшего порядка никому не интересно. Архитектоника рассказа выявляет, во-первых, провал коммуникации как таковой и, во-вторых, неразрешимость внутреннего конфликта современного Чехову интеллигента.
Архитектоника, провал коммуникации, ценности, мирополагание
Короткий адрес: https://sciup.org/147220215
IDR: 147220215 | УДК: 82-3 | DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-2-90-98
Текст научной статьи Провал коммуникации как архитектонический фактор поэтики А. П. Чехова ("Кошмар", "Враги", "Неприятность")
В заглавие настоящей статьи вынесена формула Ю. К. Щеглова «провал коммуникации». Исследователь определяет этот параметр чеховской поэтики в качестве одного из конструктивных для его художественной парадигмы: «Автоматизм и оскудение духовной жизни приводят к невозможности сколько-нибудь содержательного общения. Несоответственная реакция партнера на порыв общительности и интимности со стороны героя, душевная глухота, уход от ответа – мотив, фигурирующий у Чехова на первом месте» [Щеглов, 2012. С. 210]. Разумеется, «провал коммуникации» является не только мотивом, но и элементом архитектоники чеховских рассказов – именно архитектонический аспект ситуации взаимного непонимания (неуслышанности) станет предметом данной статьи.
Проблемы коммуникации у Чехова обстоятельно изучены в одноименной монографии А. Д. Степанова, в которой доказывается, что закономерность квазиобщения тематически эквивалентна «теме жизни, разрушенной познавательным заблуждением» [2005. С. 361]. Ученый приходит к выводу, что в чеховской поэтике «провалы коммуникации оказываются не просто потенциально возможны, но и <…> неизбежны. <…> Желание, знаковость, текстуальность доминирует над реальностью и подменяет социофизические реалии» [Там же.
С. 361–362]. Чеховский герой в таком случае «всегда готов принять одно за другое – желаемое за действительное, нестрашное за страшное, красивое за разумное или морально безупречное и т. д., – отсюда постоянные полярные переоценки мира и отсутствие взаимопонимания» [Степанов, 2005. С. 362].
Под архитектоникой в настоящей статье понимается ценностная организация эстетического объекта (в котором сосуществуют персонажи, природа и вещи; который претворен в событие / воплощен бытийно, которому свойствен тип эстетического завершения и пр.). Согласно М. М. Бахтину, «архитектонические формы суть формы душевной и телесной ценности эстетического человека, формы природы – как его окружения, формы его события в его лично-жизненном, социальном и историческом аспекте и проч.; все они суть достижения, осуществленности, они ничему не служат, а успокоенно довлеют себе, – это формы эстетического бытия в его своеобразии» [1975. С. 20–21]. В соответствии с допущением ценностного выстраивания мира-объекта мыслитель объясняет в другой работе той же поры (1920-х гг.): «Этот мир дан мне с моего единственного места как конкретный и единственный. Для моего <…> сознания он, как архитектоническое целое (выделено автором. – Л. С .), расположен вокруг меня как единственного центра исхождения моего поступка…»; соответственно «высший архитектонический принцип действительного мира поступка есть конкретное, архитектонически значимое противопоставление я и другого. Два принципиально различных, но соотнесенных между собой ценностных центра знает жизнь: себя и другого, и вокруг этих центров распределяются и размещаются все конкретные моменты бытия» [Бахтин, 2003. С. 51–52, 67]. Поэтому объяснимо соотнесение ценностных позиций персонажей в единой ценностной структуре художественного целого: проблема непонимания – не-услышания выдвигается в архитектонически значимый элемент чеховского художественного универсума.
Материалом статьи послужили три рассказа А. П. Чехова переходного периода («Кошмар», 1886, «Враги», 1887) и начала зрелого творчества («Неприятность», 1888). Провал коммуникации изучается в качестве архитектонического фактора поэтики писателя.
Результаты исследования
«Кошмар». Событие «узнавания» и поляризация ценностей
В рассказе «Кошмар» член по крестьянским делам присутствия Кунин, вернувшись из Петербурга в свое имение и проведя там уже год, назначает встречу местному священнику о. Якову. Выясняется, что Кунин так и не познакомился со священником, и нынешняя встреча видится ему удобным поводом для знакомства. Сюжет рассказа представляет собой историю несостоявшегося диалога. Композиционно рассказ организован как столкновение точек зрения двух главных персонажей – Кунина и о. Якова. Основной сюжет организован точкой зрения «барина»; конец рассказа выстроен сюжетной «репликой» о. Якова – именно она потенцирует (квази)диалогическую структуру произведения.
Первое впечатление Кунина от вида о. Якова транслирует недоверие: «Какое аляповатое, бабье лицо!»; «Странный субъект… – подумал Кунин, глядя на его (о. Якова. – Л. С.) полы, обрызганные грязью. – Приходит в дом первый раз и не может поприличней одеться» [Чехов, 1984. Т. 5. С. 60, 61] 1. Пренебрежительное обращение хозяина к гостю предопределено этой социально-антропологической пресуппозицией: «Садитесь, батюшка, – начал он более развязно, чем приветливо <…> Малорослый, узкогрудый <…>, он на первых же порах произвел на Кунина самое неприятное впечатление. Ранее Кунин никак не мог думать, что на Руси есть такие несолидные и жалкие на вид священники, а в позе отца Якова, в этом держании ладоней на коленях и сидении на краешке, ему виделось отсутствие достоинства и даже подхалимство» (т. 5, с. 61). И пока земской деятель вдохновенно излагает планы по открытию церковно-приходской школы, на которую у общины на самом деле нет и не будет денег, о. Яков застенчиво молчит. Психологический портрет персонажа, в сущности, готов, полагает Кунин: «Малый, как видно, не из очень умных <…> Не в меру робок и глуповат» (т. 5, с. 62). И далее в первом эпизоде – визите о. Якова – оценочная точка зрения выражается в непосредственных (реактивных) комментариях Кунина.
Оживление батюшки во время чаепития, припрятывание кренделька поражают хозяина: «Ну, уж это совсем не по-иерейски! – подумал Кунин, брезгливо пожимая плечами. <…> Что это, поповская жадность или ребячество?» (т. 5, с. 62). Фамильярное приглашение сесть, жест откидывания на спинку кресла – в то время как гость «неловко опустился на край кресла», брезгливое пожимание плечами – всё это вербальные и невербальные сигналы, передающие позицию превосходства образованного господина над забитым деревенским священником. После ухода отца Якова Кунин иронизирует по поводу такого жалкого пастыря, а потом предается размышлениям об образцовом священнике и даже сочиняет проповедь, предназначенную для публичного чтения в церкви («Дам тому рыжему, пусть прочтет в церкви…», – думал он (т. 5, с. 63)). «Тот рыжий», лишенный имени и обозначенный указательным местоимением, – человек малоценный в социальных координатах земского функционера.
Когда Кунин, в свою очередь, навещает о. Якова, его поражает ветхость церкви и прихожан: «Где же рабочий возраст? Где юность и мужество? Но, постояв немного и вглядевшись в старческие лица, Кунин увидел, что молодых он принял за старых. Впрочем, этому маленькому оптическому обману он не придал особого значения» (т. 5, с. 64). Риторическое речевое поведение (собирательные существительные, риторические вопросы, ораторские штампы) иронически снижает образ субъекта внутренней речи, а его неспособность разглядеть до времени постаревшие лица молодых крестьян свидетельствует о равнодушии к тем социальным вопросам, которые он призван решать. Однако герой читает наставление о. Якову о «высоте призвания» духовенства и «развитии и нравственных качествах» отдельных его представителей (т. 5, с. 66). Раздражение Кунина возрастает после того, как он посещает убогий дом священника и, не дождавшись чаю, уходит.
Решив, что о. Яков невежа и пьяница, он, в полной уверенности в том, что выполняет свой гражданский долг, изложил свое мнение в письме к архиерею. В очередной приход священника Кунин «порешил не начинать разговора о школе, не метать бисера» (т. 5, с. 67). Отметим усеченный фразеологизм, передающий крайнюю степень пренебрежения к собеседнику. Кунин предъявляет установку на коммуникативную закрытость по отношению к оппоненту. Однако уездному общественному деятелю приходится выслушать горестный рассказ гостя о той нужде, которую он ошибочно принял за «поповскую жадность»: о том, что о. Яков ходит за семь-восемь верст к Кунину, а тот еще и не велит его принимать; о том, что в доме нет даже чаю, а из скудного жалованья священник выделяет три рубля спившемуся и отстраненному от службы о. Авраамию; о том, что он стыдится своей латаной рясы… Потрясение Кунина в целом соответствует кульминации «рассказа открытия». В. Б. Катаев относит «Кошмар», в числе многих других чеховских рассказов, к этой жанровой парадигме [Катаев, 1979. С. 9–21]. «Открытия в произведениях Чехова не завершают и не подытоживают исканий героев, – подчеркивает исследователь. – Они не знаменуют собой прихода к новому философскому мировоззрению <…>. Новое видение может прийти и уйти, чаще же всего оно несет с собой не успокоение, а новое беспокойство. Не поэтика обретения конечных истин вырабатывалась в “рассказах открытия”, а поэтика бесконечного процесса поисков ответа на вопросы, на которые не дано <…> ответа» [Там же. С. 19]. В рассказе «Кошмар» как произведении, в котором жанр далеко не оформлен, «открытие» персонажа не влечет его к поиску истины, а выражается в кратковременном нарушении эмоционального равновесия.
Порыв Кунина оказался довольно слабым – решив хоть немного помочь священнику и столь же обездоленному доктору, он малодушно рассчитывает предполагаемые траты из своего жалованья и понимает, что едва может покрыть свои расходы… Рассказ завершается авторским риторическим выводом: «Тут вдруг Кунин вспомнил донос, который написал он архиерею, и его всего скорчило, как от невзначай налетевшего холода. Это воспоминание наполнило всю его душу чувством гнетущего стыда перед самим собой и перед невидимой правдой… Так началась и завершилась искренняя потуга к полезной деятельности одного из благонамеренных, но чересчур сытых и не рассуждающих людей» (т. 5, с. 73). Ироническая редукция «стыда» до «потуги» означает, что «открытие», действительно, не привнесло в жизнь благодушного либерала ничего существенно нового.
В целом рассказ выстроен как комбинация двух социально-психологических планов с соответствующими персонажными центрами – не лишенного совестливости либерала, пытающегося занять патерналистскую позицию по отношению к «низшим» сословиям, и униженного нищетой молодого священника. Архитектонически рассказ оформлен как столкновение ценностных структур преобладания (позиция Кунина) и самоумаления (позиция о. Якова); момент столкновения (композиционно – кульминация) – узнавание правды – уравнивает эти ценностные структуры, затем они вновь поляризуются относительно друг друга.
« Враги ». Аннигиляция ценностей оппонента
Сюжетно рассказ организован не вокруг ситуации «узнавания» правды одним из оппонентов, как в предыдущем рассказе, а вокруг прямого столкновения непримиримых персональных и социальных противоречий. Доктор Кирилов, у которого только что скончался шестилетний сын, вынужден по настоянию богача Абогина ехать в его усадьбу спасать от сердечной хвори жену последнего. Когда убитый горем доктор и неподдельно взволнованный проситель прибывают в имение Абогина, выясняется, что болезнь была хитрой уловкой супруги, которой надо было отослать хозяина из дома, – за эти два часа она собралась и сбежала с неким Папчинским.
Контраст подлинного и «водевильного» (следующего из анекдотической матрицы сюжета бегства жены с любовником) несчастий задается еще в доме доктора. Локус дома эстетизируется, приобретая значение красоты страдания: «Во всеобщем столбняке, в позе матери, в равнодушии докторского лица лежало что-то притягивающее, трогающее сердце, именно та тонкая, едва уловимая красота человеческого горя, <…> которую умеет передавать, кажется, одна только музыка. Красота чувствовалась и в угрюмой тишине; Кирилов и его жена молчали, <…> как будто, кроме тяжести потери, сознавали также и весь лиризм своего положения <…>» (т. 6, с. 33–34). Абогин вторгается в это пространство, разрушая набором стандартных и обезличенных фраз его печальную гармонию: «…замечательно, какие бы фразы он ни говорил, все они выходили у него ходульными, бездушными, неуместно цветистыми и как бы даже оскорбляли и воздух докторской квартиры и умирающую где-то женщину» (т. 6, с. 35).
Гнев обманутого Абогина также выражается в трагикомической декламации, как будто позаимствованной из бульварного романа: «Обманула! Ушла! Заболела и услала меня за доктором для того только, чтобы бежать с этим шутом Папчинским!»; «К чему этот грязный, шулерский фокус, эта дьявольская, змеиная игра?»; «Услала затем, чтобы бежать с этим шутом, тупым клоуном, альфонсом! О Боже, лучше бы она умерла! Я не вынесу» (т. 6, с. 39). Очнулся от своего оцепенения («равнодушия») и доктор: «Равнодушие и удивление на его лице мало-помалу уступили место выражению горькой обиды, негодования и гнева. <…> Черты лица его стали еще резче, черствее и неприятнее» (т. 6, с. 41). Участие в этом трагифарсе возмутило Кирилова – его человеческое достоинство и социальные инстинкты: «Меня заставляют играть в какой-то пошлой комедии, играть роль бутафорской вещи!»; «Не нужны мне ваши пошлые тайны <…> Не смеете вы говорить мне эти пошлости! Или вы думаете, что я еще недостаточно оскорблен? Что я лакей, которого можно оскорблять?»; «Зачем вы меня сюда привезли? <…> Если вы с жиру женитесь, с жиру беситесь и разыгрываете мелодрамы, то при чем тут я? <…> Упражняйтесь в благородном кулачестве, рисуйтесь гуманными идеями, <…> играйте на контрабасах и тромбонах, жирейте, как каплуны, но не смейте глумиться над личностью!» (т. 6, с. 40, 41).
В описанной ситуации домашнего скандала можно различить две системы ценностных координат. Абогин является носителем ценностей быта, мещанского благополучия («сытости и изящества») и социального комфорта. Кирилов выражает в своем ответе Абогину ценности уважения к личности – в ее приватном и социальном бытовании. Доктор повторяет, что не позволит приравнивать себя к вещи (ценности быта – особенно если учесть такие замеченные им детали, как футляр от виолончели, чучело «такого же солидного и сытого, как сам Абогин», волка и красный абажур). Фраза о «бутафорской вещи» звучит дважды (т. 6, с. 40, 42). Поэтому в смысловой конструкции рассказа невозможно событие «узнавания» чужой правды – ни Абогин, ни Кирилов не намерены ее выслушать. Кирилов не признает житейской драмы Абогина, а Абогин вряд ли соболезнует Кирилову. Доктор девальвирует эмоциональный мир покинутого барина: «Несчастлив <…> Не трогайте этого слова, оно вас не касается. Шалопаи, которые не находят денег под вексель, тоже называют себя несчастными. Каплун, которого давит лишний жир, тоже несчастлив. Ничтожные люди!» (т. 6, с. 42). И когда оскорбленный в своем личном несчастье и социальном чувстве доктор покидает дом Абогина, автор неожиданно заключает, что «мысли его были несправедливы и нечеловечески жестоки» и что он «всю дорогу ненавидел их (фигурантов абогинской истории, включая его самого. – Л. С .) и презирал до боли в сердце» (т. 6, с. 43). Именно авторское слово, в отличие от предыдущего рассказа не риторическое, а философическое, завершает рассказ о том, как два персонажа оказались неспособны услышать друг друга: «Пройдет время, пройдет и горе Абогина, но это убеждение, несправедливое, недостойное человеческого сердца, не пройдет и останется в уме доктора до самой могилы» (т. 6, с. 43) 2.
Обе ценностные позиции оказываются в известной степени уравнены в акте несостоявше-гося диалога. По справедливому замечанию А. Д. Степанова, рассказ «выступает как ряд сложенных друг в друга контрастов, которые снимаются на высшем для Чехова уровне противопоставления риторики и горя. Контрасты социальные и психологические снимаются острой неправотой риторики мелодрамы и социальной публицистики» [Степанов, 2005. С. 173]. Ориентированность слова оппонентов на разные речевые жанры, несомненно, формализует конфликт слышащих только себя персонажей, фиксируя принципиальное несовпадение их точек зрения.
«Неприятность». Доминирование одного ценностного центра
В рассказе «Неприятность» земский врач Григорий Иванович Овчинников, догадавшись, что фельдшер Михаил Захарович на обходе больных «пьян тяжело, со вчерашнего», все свое негодование вкладывает в сильный удар по лицу последнего. Собственно, это и есть центральное фабульное событие. Сюжетно же оно развивается в попытках доктора доказать свою правоту и быть услышанным. Отметим фабульную кульминацию в начале рассказа и отсутствие сюжетного разрешения в повествовании.
Фельдшер давно вызывал у доктора чувство нравственной брезгливости. Его пьянство, нечистота и небрежение обязанностями постоянно раздражают Овчинникова, поэтому он испытывает «большое удовольствие оттого, что удар кулака пришелся как раз по лицу и что человек солидный, положительный, семейный, набожный и знающий себе цену, покачнулся, подпрыгнул, как мячик, и сел на табурет» (т. 7, с. 143). Следующий за этим внутренний монолог доктора развертывает последовательность аргументов в пользу того, что фельдшер давно заслужил наказания. Самооправдание манифестирует основные ценности доктора: честность, знание дела, уважение к больным и самому доктору. «Добро бы это был шарлатан, <…> но это шарлатан убежденный и втайне протестующий», берущий с больных взятки и тайком продающий земские лекарства (т. 7, с. 144). А главное, как признается себе позже доктор, «Он уже тем скотина, что заставил меня драться первый раз в жизни. Я отродясь не дрался» (т. 7, с. 147).
Овчинников принимается писать ультимативное письмо в управу (или я, или он), причем первый вариант прошения представляет собой смешение эпистолярных жанров дружеского письма и официальной просьбы: «Прочитав это письмо, доктор нашел, что оно коротко и недостаточно холодно. <…> “Какой тут к черту Юс? (прозвище сына семейства. – Л. С .)” – подумал доктор и стал придумывать другое. – “Милостивый государь…”» (т. 7, с. 145). Обычный для доктора в общении с председателем управы Львом Трофимовичем тон теперь невозможен – бытовое вытесняется служебным. Путаница в основном сообщении выявляет путаницу намерений доктора – либо найти сочувствие не столько у начальства, сколько у знакомых, либо, наоборот, апеллировать к начальству с позиций служебной компетенции. В первом случае это потенциальный диалог, во втором – направленный на адресата запрос, не предполагающий иной правоты, кроме правоты адресанта.
Между тем текущая за окном жизнь не знает ни душевных, ни профессиональных мук героя. Доктор видит уток с утятами, молодые липы, собирающую щавель для щей кухарку… Вчерашний ливень, по контрасту со смятением доктора, освежил все вокруг: «Тропинка <…> кажется умытой, и разбросанная по сторонам ее битая аптекарская посуда, тоже умытая, играет на солнце и испускает ослепительно яркие лучи. А дальше за тропинкой жмутся друг к другу молодые елки, одетые в пышные зеленые платья, за ними стоят березы с белыми, как бумага, стволами, а сквозь <…> зелень берез видно голубое бездонное небо» (т. 7, с. 147). Яркий весенний день, молодая коллега доктора Надежда Осиповна, прозванная «русалкой», в розовом платье, а после приема успевшая накинуть на себя ярко-пунцовый платок, – витальная колористика предметного мира усугубляет отчаяние героя. «Доктор глядел по сторонам и думал, что среди всех этих ровных, безмятежных жизней, как два испорченных клавиша в фортепиано, резко выделялись и никуда не годились только две жизни: фельдшера и его» (т. 7, с. 148). В приведенном противопоставлении мироощущения персонажа (драматизированного сюжетной ситуацией) природному миру обозначен иной ценностный порядок. Возможно, это «противостояние» социально-этического и природного и является определяющим в архитектонике рассказа.
Когда фельдшер приходит просить прощения, доктор уверен, что им движет не «христианское смирение», а страх потери места; он испытывает сильнейший гнев и велит своему противнику подать прошение об отставке. В повествование вводится точка зрения фельдшера: «Он всегда считал доктора непрактическим, капризным мальчишкой, а теперь презирал его за дрожь, за непонятную суету в словах…» (т. 7, с. 150). Правота Овчинникова начинает размываться, хотя точка зрения обиженной стороны не авторитетна. Главное, что Овчинников, как ни старается, не может вполне оправдать себя сам. Поэтому дальнейшие события, непонимание его поступка со стороны начальства, которое должно было его услышать, и его внутреннее сомнение предопределяют провал коммуникации в рассказе.
Разговор с мировым судьей, настроенным по отношению к доктору благодушно, тоже не помог разрешить случившейся «неприятности». Мировой рассуждает о непреодолимости социального зла в лице всех мелких служащих: «Прого́ ните, а на его место сядет другой такой же, да еще, пожалуй, хуже. Перемените вы сто человек, а хорошего не найдете… Все мерзавцы. <…> в настоящее время честных и трезвых работников, на которых вы можете положиться, можно найти только среди интеллигенции и мужиков, то есть среди этих двух крайностей – и только» (т. 7, с. 154). Овчинников недоумевает, почему происшествие с фельдшером обсуждается в плоскости социальных вопросов: «Зачем он это говорит? <…> Не то мы с ним говорим, что нужно»; «Черт знает что, не то я говорю! <…> Это оттого, что я неглубок и не умею мыслить» (т. 7, с. 155). Вместе с тем он высказывается в том направлении, которое задал собеседник: «Средний человек, как вы назвали, ненадежен. <…> Мы его гоним, браним, бьем по физиономии, но ведь надо же войти и в его положение. Он ни мужик, ни барин, ни рыба, ни мясо; прошлое у него горькое, в настоящем у него только 25 рублей в месяц, голодная семья и подчиненность, в будущем те же 25 рублей и зависимое положение <…> Ну, как тут, скажите, не пьянствовать, не красть? Где тут взяться принципам!» (т. 7, с. 155). Внутренне же доктор снова удивляется, что, собственно, его положение с фельдшером остается неопределенным: «Мы, кажется, уж социальные вопросы решаем, – подумал он. – И как нескладно, Господи! Да и к чему всё это?» (т. 7, с. 156). В этом фрагменте рассказа осуществляется ложная коммуникация – первоначальные цели адресанта меняются в соответствии с ожиданиями адресата; конкретное замещается общим, причем риторически сформулированным.
Приехавший председатель управы заставляет фельдшера вновь просить прощения у доктора, обещать вести трезвую жизнь, затем отпускает служить дальше. И, потирая руки, приглашает мирового судью и доктора выпить «водочки». Доктор возмущен тем, что серьезный вопрос подменен не серьезнейшим, как в разговоре с мировым, а сведен к показному раскаянию: «Это… это комедия! Это гадко! Я не могу. Лучше двадцать раз судиться, чем решать вопросы так водевильно. Нет, я не могу!» (т. 7, с. 158). Однако в это время «подали водку и закуску». «На прощание доктор машинально выпил рюмку и закусил редиской» (т. 7, с. 158). Так закончился тяжелый эпизод в жизни доктора – слова перестали что-либо означать, получив продолжение в ритуале, и ценностная выраженность позиций так и не проявилась.
В анализируемом рассказе ситуация непонимания распространяется на весь бытийный уклад главного персонажа. Подмена серьезного несерьезным (водевиль, комедия), необходимость снова терпеть возле себя негодного помощника возникают вследствие того, что никто не намеревался понять героя. «Ему было стыдно, что в свой личный вопрос он впустил посторонних людей, стыдно за слова, которые он говорил этим людям, за водку, которую он выпил по привычке пить и жить зря, стыдно за свой не понимающий, не глубокий ум…» (т. 7, с. 158). Последнее высказывание героя – «Глупо, глупо, глупо…» – сигнализирует о том, что коммуникации не состоялось, что он остался непонятым и его недовольство порядком жизни будет усиливаться. Архитектонически рассказ воплощен как неосуществленный запрос ведущего героя на понимание.
Заключение
Сюжетообразующим в рассказах А. П. Чехова «Кошмар» и «Враги» является признание в некоем лице оппонента ведущего персонажа, причем оппонент не столько связан с ним отношениями служебной зависимости, что было характерно для раннего творчества писателя, сколько репрезентирует иные ценностные установки. В обоих рассказах они обусловлены в основном социальным положением персонажей; во втором рассказе социальное «приращивается» экзистенциальным, и появляется авторская оценка, уравнивающая бытийные статусы персонажей. В зрелом творчестве Чехова этот тип сюжетной событийности узнаваем в повестях «Дуэль», «Рассказ неизвестного человека», «Черный монах» и др. В рассказе «Неприятность» отсутствует персонаж, предъявляющий герою позицию как таковую, – перспектив к выстраиванию диалога не обнаруживается. В этом рассказе герой замкнут в своем переживании неправильного, недолжного порядка вещей – в дальнейшем по такой модели осуществится архитектоническое построение повести «Моя жизнь», рассказа «Новая дача» и пр. Архитектонически рассмотренные произведения выстроены как движение от непонимания к новому непониманию, т. е. как несостоявшаяся коммуникация, ведущая к постижению онтологической ценности жизни.
Материал поступил в редколлегию Received 15.12.2019
Список литературы Провал коммуникации как архитектонический фактор поэтики А. П. Чехова ("Кошмар", "Враги", "Неприятность")
- Бахтин М. М. К философии поступка // Бахтин М. М. Собр. соч.: В 7 т. М.: Русские словари; Языки славянской культуры, 2003. Т. 1. С. 7-68.
- Бахтин М. М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Худож. лит., 1975. С. 6-71.
- Катаев В. Б. Проза Чехова: проблемы интерпретации. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. 326 с.
- Семкин А. Д. Моралист и проповедник? (Механизм конфликта и авторское нравоучение в рассказе "Враги") // Чеховиана. Из века XX в XXI: итоги и ожидания. М.: Наука, 2007. С. 315-327.
- Степанов А. Д. Проблемы коммуникации у Чехова. М.: Языки славянской культуры, 2005. 400 с.
- Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 18 т. М.: Наука, 1984. Т. 5. 703 с.; 1985. Т. 6. 735 с.; Т. 7. 733 с.
- Щеглов Ю. К. Молодой человек в дряхлеющем мире (Чехов, "Ионыч") // Щеглов Ю. К. Проза. Поэзия. Поэтика. Избранные работы. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 207-240.