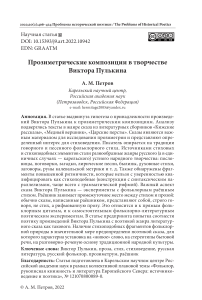Прозиметрические композиции в творчестве Виктора Пулькина
Автор: Петров Александр Михайлович
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.20, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье выдвинута гипотеза о принадлежности произведений Виктора Пулькина к прозиметрическим композициям. Анализу подверглись тексты в жанре сказа из литературных сборников «Кижские рассказы», «Медный вершник», «Царские персты». Сказы являются важным материалом для исследования прозиметрии и представляют определенный интерес для стиховедения. Писатель опирается на традиции говорного и песенного фольклорного стиха. Источниками стиховых и стихоподобных элементов стали разнообразные жанры русского (а в единичных случаях - карельского) устного народного творчества: пословицы, поговорки, загадки, лирические песни, былины, духовные стихи, заговоры, руны калевальской метрики и т. д. Также обнаружены фрагменты повышенной ритмичности, которые нельзя с уверенностью квалифицировать как стихоподобные (конструкции с синтаксическим параллелизмом, чаще всего с грамматической рифмой). Важный аспект сказа Виктора Пулькина - эксперименты с фольклорным раёшным стихом. Раёшник занимает промежуточное место между стихом и прозой: обычно сказы, написанные раёшником, представляют собой, строго говоря, не стих, а рифмованную прозу. Это относится и к прямым фольклорным цитатам, и к самостоятельным фольклорно-литературным поэтическим экспериментам. В статье предпринята попытка соотнести поэтику произведений Виктора Пулькина с поэтикой жанра литературного сказа как такового. Наличие стихоподобных фрагментов фольклорной природы в значительной мере предопределено поэтикой сказа, для которого характерна установка на «живое» слово, на стереотипы бытовой речи, на разговорно-речевую основу традиционной народной культуры.
Виктор пулькин, проза, стих, стиховедение, русская литература, русский фольклор, прозиметрум, раёшник
Короткий адрес: https://sciup.org/147237946
IDR: 147237946 | DOI: 10.15393/j9.art.2022.10942
Текст научной статьи Прозиметрические композиции в творчестве Виктора Пулькина
Вэстетике литературного творчества существуют «слепые» зоны, которые время от времени становятся объектом научного интереса, но пока что не получили определенного места в номенклатуре художественных форм и обычно трактуются как исключения, как явления художественной периферии. К таким явлениям относится прозиметрия, прозиме-трическая композиция — «пограничная» литературная форма между стихом и прозой; прозиметр (прозиметрум) — «произведение, включающее в свой состав стиховые и прозаические фрагменты» [Орлицкий, 2008: 18]. В настоящее время накоплен достаточный эмпирический материал и предложены ясные подходы к анализу таких текстов [Орлицкий, 2008]. Однако творчество некоторых писателей до сих пор не попало в орбиту внимания стиховедов, хотя оно дает определенную пищу для стиховедческих размышлений. К таким писателям относится петрозаводский прозаик Виктор Пуль-кин (1941–2008) — мастер литературного сказа, нашедший неисчерпаемый кладезь сюжетов и персонажей в фольклоре и этнографии Русского Севера [Писатели Карелии: 56–59], [Рогощенков: 245], [Шилова]. Опора на севернорусскую речь [Писатели Карелии: 56] делает его непереводимым писателем. Богатство языка, тонкое, мастерское владение художественным словом были отмечены читателями и литературными критиками сразу же после выхода первого сборника «Кижские рассказы» (1973). В дальнейшем Виктор Пулькин укрепил репутацию автора, который способен удивить неожиданными языковыми «твистами» и каламбурами. В предлагаемой статье мы постараемся доказать, что проза Виктора Пулькина имеет и второе «измерение» — стихотворное. Оно бывает замаскировано, прослеживается не всегда, не последовательно и не во всех произведениях, но оно есть и требует основательного изучения.
Впервые мы обратили внимание на свернутое, имплицитное «стихоподобие» отдельных фрагментов прозы Виктора Пулькина при рассмотрении проблемы фольклорно-литературных связей [Петров: 105]. Возник естественный вопрос: можно ли констатировать наличие в творчестве писателя если не полноценной прозиметрии, то какого-то общего, в терминологии Ю. Б. Орлицкого, «прозиметрического вектора»?
Цель предлагаемой статьи — по возможности ответить на этот вопрос; проверить гипотезу о тяготении прозы Виктора Пулькина к прозиметрическим структурам. Материал — сборники «Кижские рассказы» (1973), «Медный вершник» (1988, в cоавторстве с Н. А. Криничной) и «Царские персты» (2002). Тексты исследовались путем сплошной выборки, фиксировались все стихотворные фрагменты. При этом наиболее плотно ими насыщен ранний сборник «Кижские рассказы», это основной массив материала. Сборники «Медный вершник» и «Царские персты» также содержат сказы со стиховыми отрезками или с элементами метризованной прозы, но по количеству прозиметров существенно уступают «Кижским рассказам».
Проблему стиха и прозы в творчестве Виктора Пулькина необходимо рассматривать в более широком контексте — с учетом того жанра, в котором преимущественно работал писатель, т. е. жанра литературного сказа. Как известно, в сказовой манере письма изначально заложена повышенная ритмичность, установка на художественную имитацию устной речи [Виноградов: 52], [Тынянов: 160], [Эйхенбаум: 214], с инверсиями, грамматическим параллелизмом, включением рифмованных афористических сентенций в составе фольклорных пословиц, поговорок и т. д. Сказ — это «развернутое повествование в форме рассказа от имени самого действующего лица, сохраняющего свои речевые особенности» [Тимофеев: 241]; «в большинстве случаев сказ есть прежде всего установка на ч у ж у ю р е ч ь, а уж отсюда, как следствие, — на устную речь» [Бахтин: 214]. Эта концепция сказа в настоящее время считается общепринятой [Захаров: 42]. В то же время имеются и возражения против этой формулировки: «…для сказа в принципе не обязательны ни установка на “устное” или “чужое” слово, ни дистанцирование автора и “рассказчика”» [Руденко: 54]. Также «в литературоведении понятие “сказ” употребляется в двух смыслах: 1) жанр произведения; 2) форма повествования» [Старыгина: 70]. Различия между этими понятиями достаточно тонки, обычно в качестве основного признака указывается разница в восприятии читателем художественной стилизации: «…в литературном сказе читатель не ощущает, что повествование здесь — сознательная установка на стилизацию; сказовую же форму повествования читатель воспринимает именно как “установку на чужую речь”» [Старыгина: 71].
В наши задачи не входит теоретическое уточнение термина «сказ», отметим лишь, что четкое разделение голосов — на автора и рассказчика — в прозе Виктора Пулькина не всегда выглядит очевидным. Границы бывают размыты, личность реального автора явно проступает в обрамлениях публицистического типа, в которых нет стихоподобных фрагментов и которые далеки от жанра сказа. Голосовые же партии рассказчиков содержат признаки сказовой интонации, что помогает автору дистанцироваться от рассказчика, а также позволяет индивидуализировать тот или иной образ, сблизить его с возможным прототипом — человеком «из народа». Однако и в этом случае рассказчик зачастую сливается с реальным автором, чему, думается, немало поспособствовали фольклорные и этнографические поездки Виктора Пулькина по Русскому Северу: он основательно изучил севернорусскую культуру, ее язык и ее духовные ценности, поэтому как бы «вжился» в роль рассказчика и ассоциирует себя со своими многочисленными информантами — носителями фольклорной и языковой традиции региона. Но подобная неотчетливость характерна и в целом для жанра литературного сказа: «…читатель воспринимает рассказчика одновременно и как автора» [Старыгина: 72].
Источники метризации прозы Виктора Пулькина
Стиховые фрагменты в прозе Виктора Пулькина имеют разное происхождение, но в подавляющем большинстве случаев их источником является русский (значительно реже — карельский) фольклор . При этом писатель использует традиционные народнопоэтические образы, рифмы, формулы, жанровые каноны, но распоряжается ими по собственному усмотрению, в необходимом для него порядке. Важно подчеркнуть, что Виктор Пулькин редко цитирует фольклорные произведения дословно. Почти всегда он, подобно носителю фольклорной традиции, допускает какие-то перестановки, замены, контаминации и т. п., т. е. обращается с фольклорным материалом достаточно свободно, но в пределах, определенных традицией, без уклона в стилизацию или пародию.
Первый и самый очевидный источник метризации прозы — пословицы , поговорки , а также разного рода присказки , присловья , прибаутки , загадки и т. п., т. е. зарифмованные фрагменты малого объема, все в форме говорного (досилла-бического) стиха — раёшника . Их Виктор Пулькин привлекает в изобилии:
«Давно было. Жил в Кижах Бессчастной молодец. Всем был хорош, да в дело не гож»1; «Гуляют-погуляют, устанут — перестанут; отдохнут — опять начнут. Был пир на весь мир» (КР, «Само-цветно жуковинье»: 18); «Обычно семеро сбирались. Инный раз смеялись: один рубит, шестеро в кулаки трубят» (КР, «С Нестером шестеро»: 134); «Чертить научился плотничной чертой, бревно к бревну пригнал — уж ты в артели не лишний. Скажут: “Он хоть еще и не плотник, да стучать охотник”» (КР, «С Нестером шестеро»: 135); «…Вот хоть и говорят, мол, кабы не клин да не мох, давно бы плотник изнемог, а первой-то раз вовсе без моху клали. Потом сруб разберут, опять соберут, с мохом. А ты и не знал? Было» (КР, «Плотницкий счет»: 137); «С нашей пряхи ни одежи, ни рубахи!» (КР, «Старое присловье»: 175); «Слышано от старых людей. Притянулась в деревню чудная плотницкая артель. Топоры не точёны, головы не учёны» (КР, «Плотницкие присловья»: 128); «Чудо водяное в озеро провалилось. Забилось под кокору — не сказалось, под котору2» — и т. д. Пример загадки (отгадка — солнце): «По небу хожу, на землю гляжу. Летом огнем горю, зимой холожу» (ЦП, «Царские персты»: 40).
Такие фольклорные тексты могли быть известны Виктору Пулькину и по хрестоматийному сборнику В. И. Даля «Пословицы русского народа», и по другим многочисленным публикациям произведений народного творчества. Конкретный «прототип» для всего массива текстов едва ли можно установить, тем более что пословицы, поговорки, прибаутки и загадки могли и просто входить в речевой обиход писателя из его личного обыденного житейского опыта.
К этой группе можно условно отнести заговоры — тексты на границе говорного стиха и прозы. Народные заговоры обладают высокой степенью ритмичности [Хворостьянова: 88], что позволяет отнести их к стихообразующим элементам прозы. Например (охотничий заговор):
« Во имя отца и сына и святого духа… Вы, верные мои слуги, крепкие сторожа, лесные, водяные и воздушные, косолапы, рогаты, клыкасты, хвостаты! Собирайтесь, слетайтесь, сползайтесь! Гоните в мои силки сильные, узы кованые, клепы железные всякого зверья! Вы, черные куницы, красные лисицы, серые зайцы, бурые медведи! Мимо крепи моей не пробегайте! По одну сторону моих ставушек летят стрелы каменные, по другую стоят топоры булатные, позади стены высокие! Слово мое буде крепко во веки веков. Аминь! » ( КР , «Про Шатуна»: 169).
Используются и образцы локального прозвищного фольклора — дразнилки :
«Заонежана тоже хохочут, вот в бока упираются, перестанут — да нас и отдарят: “А вы кто таки? Красны рожи, рваны одежи, рты полы… верно, каргополы?! ”» ( КР , «Мы — толоконники»: 57).
Такие тексты широко распространены в народной культуре [Дранникова], [Ахметова], писателю, несомненно, были хорошо знакомы их некоторые образцы.
Раёшник существует «как в стихотворной, так и в прозаической форме (то есть в виде рифмованной прозы); в этом смысле интересно, что одни и те же фольклорные тексты могут существовать одновременно и в стихотворной, и в прозаической записи» [Орлицкий, 2017: 158]. По этой причине, если подходить к интерпретации текста с должным научным ригоризмом, значительная масса фольклорных фрагментов произведений Виктора Пулькина должна быть выведена за пределы стиха. Возможно, здесь следует говорить о пограничном явлении между стихом и прозой, однако важно учитывать, что в литературном сказе значительную роль играет звуковое, акустическое (т. е. «на слух») восприятие текста. Это роднит литературный сказ с фольклором, предназначенным для устного исполнения. Так, при чтении некоторых сказов Виктора Пулькина «глазами» (как книжный, напечатанный на бумаге текст) мы получаем рифмованную прозу ; при слуховом восприятии — практически стих , в котором границы строк легко опознаются благодаря парной рифмовке. Например:
« Ехал Петр под Новый год на свой осударев завод. С ним шут Балакирь знаменитый — человек почтенный, именитый. Пошучивал, подначивал. На свой лад всякое царево слово переиначивал <…> На дворе — Святки. Ходят ряженые, поют колядки. Осударь сажей набелился, кузнецом нарядился. Вздел на плечи домотканый кафтан, кота сгреб — и в карман. Подался Новый год встречать, Рождество привечать. Праздновал не абы как: прямиком в кабак » ( ЦП , «Обратно чудо»: 147, 148); « Подрядили местного мастера Нестера ( а у него было детей шестеро )» ( КР , «Мастер Нестер»: 75).
Имеются примеры такого же раёшника, но напечатанного с разделением на строки, как несомненный стих:
« Эдак просишь-просишь, Да три года одне штаны и носишь. Ну, чем я Богу не угодил?
Ничем не пособил!
Мало свечек поставил?
Попусту кланяться заставил! Молюсь не я один — весь свет. От Него резолюции нет.
Архангелы высоко летают, Нас не видают… »
( ЦП , «Афанасий Частота сказывает»: 163).
Писатель с удовольствием экспериментировал с этой художественной формой, но делал это «по настроению», основой поэтики его сказа раёшник не стал. Обычно раёшная интонация создается при помощи прямого цитирования малых фольклорных жанров; самостоятельные, развернутые раёшные тексты в творчестве Виктора Пулькина редки.
Второй источник — это прямые или завуалированные цитаты из музыкально-песенного фольклора . Обычно это народная тоника (былины, духовные стихи, исторические песни и т. д., почти всегда безрифменные) и силлабо-тоника (например, хореические частушки, испытавшие сильное влияние литературной версификации XIX–XX вв.).
В прозаический текст могут быть вмонтированы былинные формулы, что придает произведению повышенную ритмичность:
« Зашла — фатера узорами изукрашена, цветами и травами. На небе звезды — и в палатах звезды, на небе месяц — и в палатах месяц . Из переднего угла красно солнце светит, да не угрев-но греет. Тут и водяной хозяин идет, девицу за руку ведет» ( КР , «Самоцветно жуковинье»: 14).
Это описание заимствовано автором из былины, ср.:
« На небе солнце — и в тереме солнце, На небе месяц — и в тереме месяц, На небе звезды — и в тереме звезды, На небе зори — и в тереме зори: Все в терему по-небесному » [Рыбников: 358].
Мифологами такие фольклорные описания трактуются как символические знаки космологических сущностей, соотнесенных со структурой мироздания [Криничная]. Этот семантический ореол фольклорной формулы позволяет писателю воссоздать мир удивительного, мир чудесного, в котором микрокосм осмыслен как копия макрокосма, а фантастический облик «фатеры» указывает на запредельную, потустороннюю природу художественного пространства.
В сказе, посвященном Василию Петровичу Щеголёнку, цитируется историческая песня из репертуара сказителя:
« Да вы слушайте, братцы, послушайте, А скажу старину стародавнюю, Стародавнюю старинушку, бывалую, Как Грозный царь Иван Васильевич Снарядил ли войско под Казань-город, Там стояло войско под Казань-городом, Не много, не мало — семь годов… »
( КР , «Подаренье»: 83–84).
Цитатами из народных песен разных жанров наполнены многие сказы. Так, многочисленны примеры лирических, бе-сёдных песен , при этом может передаваться «народное» звучание протяжной песни, с характерными для нее долгими распевами, т. е. писатель стремится сохранить музыкальную аутентичность фольклорного источника:
« Па-а-ала росынька-роса-а
На темны-ы леса …» ( КР , «Припевки бесёдные»: 24).
Точная передача «живого» слова — один из ярких признаков художественной стилистики сказов Виктора Пулькина, например:
«Вскричал петух, взлетел на конек дома, махнул крыльями — да и утянулся, ровно летающая какая птица, — далеко-о! — за салмы, за наволоки» ( КР , «Пропавшая бесёда»: 28); « Тя-а-сто! — изумился Егор» ( КР , «Тястенники»: 51) и т. д.
Фольклорная интонация также создается при помощи частушки :
« Не стой, милый, у порога, Поди сядь на лавочку.
Не стесняйся, отодвинь
Мою точёну прялочку! » ( КР , «Припевки бесёдные»: 24);
« Ты, Матвеюшко, женись,
Я тебе советую:
У тебя семейка маленька, Работать некому! » ( КР , «Вечная Мара»: 30).
Цитируются писателем рекрутские песни :
« Последний нонешний денечек
Гуляю с вами я, друзья… <…>
А завтра только солнце встанет,
Ох! — заплачет вся моя семья… » ( КР , «Егорий»: 110–111).
Имеются редкие примеры духовных стихов :
« Что в восьмом году да в восьмой тысяче, В восьмой тысяче, в марте месяце, Наезжал царище Кудреянище, Кудреянище, сам буянище.
Он добрых людей повырубил, Красных девиц во полон побрал, Он честного старца Феодора Под булатный меч склонил, голова срубил… …Да осталося чадо любимое, А Егорий-свет, сударь храбрыя!
Мал-младешенек был у родной матушки »
( КР , «Егорий»: 118–119).
Используются образы и мотивы свадебных причитаний :
« По ранёшеньку лебедушку будила
Ко стряпне да суетливой,
Ко убору дворовой скотинушки, —
Верно, не впервой будишь, в последний раз… »
( КР , «Неудалой колдун»: 101).
Встречаются цитаты из народных поздравительно-величальных святочных песен (следующий пример — типичный цезурированный «кольцовский пятисложник» 5+5 ):
« Как у солнышка — лучи частые! Как у месяца — золоты усы.
У проезжего добра молодца
Очи ясные, речи реченькой.
По плечам крутым, молодецкиим Кудри черные рассыпаются… Виноградие красно-зелено! »
( ЦП , «Загадки беспечального монастыря»: 58).
Практически единичен пример карельской заговорной руны (на русском языке) в сказе о герое Ийване Роккачу, вылечившем, согласно преданию, Петра I. Руна написана традиционным, каноническим для калевальской метрики белым четырехстопным хореем с женскими клаузулами:
« Прилетел Орел с востока. Он земли крылом касался, А другим касался неба. Под крылом героев сотня, Тысяча мужей на перьях. Тяжела для птицы ноша О ты, рыжее железо! Кровь земли, руда болота! Силу дай Орлу востока, Крыльям дай размах широкий! В этой бане пару вдоволь: Пусть тепло согреет тело, Возвратит вода здоровье! »
( ЦП , «Сказ о старой сосне»: 95).
Прямой источник этого стихотворения не обнаружен ни в сборниках карело-финского эпоса, ни в лённротовской «Калевале». При этом все мотивы и образы здесь имеют прямое смысловое и текстуальное соответствие в карельских народных рунах, прежде всего в рунах заговорных, т. е. фольклорные истоки здесь несомненны, это, в сущности, контаминация карельских песен. Можно предположить, что автор этого поэтического эксперимента — сам Виктор Пулькин.
В третью группу мы включили случаи неопределенные, промежуточные; какой-то четкой квалификации они не поддаются; не обнаружены и их фольклорные источники. По всей видимости, это собственные художественные находки Виктора Пулькина. Каждый пример — это очень короткий отрезок, на основании которого судить о тяготении к стиху трудно. В то же время признаки некоторой нерегулярной метризации и ритмизации, а также зачатки рифм и явный грамматический параллелизм имеются и здесь. Это не простая проза, здесь интуитивно улавливаются слабые сигналы большей метрической упорядоченности, подражания фольклорному стиху, что важно для жанра сказа. Являются эти отрезки случайными метрами или плодом целенаправленной версификации — мы с определенностью сказать не решаемся. Возможно, часть этих случаев может быть (при соответствующем контексте) отнесена к раёшнику или каким-то его элементарным, зачаточным проявлениям.
Проблема разграничения «случайных» и «не случайных» метров в прозе актуальна и для стиховедов, исследующих стихоподобные фрагменты в прозе поэтов: замечено, что «стихотворная практика поэта обнаруживает себя в ритмике его прозы даже тогда, когда поэт создает совершенно обычный (не ритмизованный) прозаический текст» [Казарцев: 236].
Приведем некоторые примеры; возможно, они пригодятся исследователям пограничных областей между стихом и прозой:
«Напоследок перстень — жуковинье, дорогой самоцвет снимала, на палец мужнин надевала » ( КР , «Самоцветно жуковинье»: 17); «Мара страхолюдна, стара; на печи сидит — подпрыгивает, ку-делю сучит — позыкивает, кирпичьем-угольем покидывает, на род человеческий сердится! » ( КР , «Вечная Мара»: 28); «Десятигодовую отдали меня в земское училище, было такое в деревне Середка. Учила нас Вера Алексеевна Русанова — кофта бела, юбка черна, волосеночки в пучок » ( КР , «Вечная Мара»: 29); «…На-стя спозаранку в полной парадной амуниции — в сарафане, кокошнике и жемчужная сетка-рефедь — коровенку охорашивала, при коровенке приголашивала » ( КР , «Егорий»: 123); «На медведя ходили Ошевни, почитай, с голыма рукама. Копьишко, нож у пояса — так, для забавы. Лесной хозяин на дыбы встанет, ревет, на добытчика идет » ( КР , «Ошевневы»: 60); « Поверх ее глядит, усами шуршит » ( КР , «Ошевневы»: 63); « Петр по Белому морю бежал — Соловков не миновал »3.
Наконец, можно обратить внимание на случаи звукописи . Специально мы их не регистрировали; насколько они характерны для сказов Виктора Пулькина — сказать пока что нельзя, однако это интересный предмет для будущих исследований:
«… л овки они л адить л егкие л етучие л одки» ( КР , «Слово о Петре и Павле»: 47).
Подобные примеры доказывают, как важен для писателя акустический аспект текста, живое звучание, фонетическая гармония, т. е. слово произносимое . Обычно такая щепетильность по отношению к звукам свойственна поэтам или музыкантам.
Заключение
Существует множество способов создания сказовой интонации: использование диалектизмов, варваризмов, просторечия, разговорных бытовых стереотипов; имитация дефектов произношения и т. д. [Мущенко, Скобелев, Кройчик: 33], т. е. разнообразная индивидуализация чужой устной речи. В прозе Виктора Пулькина к этим способам добавляется прямое и косвенное цитирование стихового фольклора. Даже стиховые сегменты, созданные писателем самостоятельно, выполнены в фольклорной стилистике. В сущности, проблема про-зиметрии в творчестве Виктора Пулькина — это и проблема фольклоризма литературного произведения. Стихотворные фрагменты участвуют в создании колоссального культурного гипертекста : писатель апеллирует к народной традиции в разнообразии ее ипостасей, текстов, жанров, смыслов. Здесь и пословичная мудрость и ирония на разные случаи и по разным поводам; и остроумная словесная эквилибристика частушки; и грусть лирической песни; и героический пафос былины; и народная история, запечатленная в исторической песне — концентрация ключевых фигур и топосов русской культуры; и языческо-христианская архитектоника заговора; и народно-православные мотивы и образы духовного стиха, т. е. народно-православная трактовка окружающего мира — во всей его глубине, сложности, нравственных противоречиях. Попытка воспроизведения тональности и стиха карельского фольклора, пусть и единичная, открывает дверь в образный мир карельской культуры, с многочисленными ассоциациями, связанными как с народной рунической поэзией, так и с лённротовской «Калевалой», а этот ракурс позволяет включить художественный мир Виктора Пулькина в прибалтийско-финский фольклорный, литературный и исторический контекст.
При этом нельзя не отметить и орнаментальную , декоративную функцию стиховых и стихоподобных фрагментов. Не всякий стих несет в себе глубинный смысл, иногда это просто игра писателя со словом , любование потенциальными, скрытыми в слове художественными зарядами, его эстетической энергией. Таковы, в частности, некоторые раёшники, благодаря которым повествование о событии (например, о посещении Петром I завода) приобретает ясно ощутимые юмористические нотки. На тонком, соразмерном балансе «серьезного» и «комического» и выстроена поэтика сказов Виктора Пулькина.
Опорой для писателя стали традиции говорного и песенного народного стиха. Стиховые фрагменты принадлежат самым разнообразным жанрам фольклора: пословицы, поговорки, загадки, частушки, былины, исторические песни, духовные стихи, рекрутские песни и т. д. В диалогических импровизациях и в речи рассказчика широко используется народный раёшник .
Мы ожидали встретить признаки молитвословного (или кондакарного ) стиха, пришедшего на Русь в эпоху христианизации [Гаспаров: 24]. Однако, за исключением единичных обрывков, традиции молитвословия не были обнаружены. Ср.: «“ Отцу и сыну и святому духу …” — склонился, крестясь, Павел» ( КР , «Слово о Петре и Павле»: 45). Единственная «молитва», которую сам писатель затрудняется определить («слова не то молитвы, не то заговора»), сложена тем же народным раёшником:
« На заре вскочил — глаза перекрестил, Чтоб Господь грешного простил.
И ложусь спать — надо молитву прочитать: “Господи Боже! Ты всех угодников дороже. Дал бы Ты, Боже, что Самому негоже…” ».
( ЦП , «Афанасий Частота сказывает»: 162).
Таким образом, в сказах Виктора Пулькина имеются определенные признаки прозиметрической композиции, в связи с чем они могут быть интересны как источниковая база для исследования переходных стихотворно-прозаических форм. Фольклорный стих составляет одну из эстетических опор, констант литературного творчества Виктора Пулькина. Образный мир родного края, тщательно воссозданный писателем на страницах произведений, при помощи стихотворных цитат включается в широкую парадигму народной культуры, не ограниченную локальными традициями.
Список литературы Прозиметрические композиции в творчестве Виктора Пулькина
- Ахметова М. В. «Неправильное» именование как оскорбление (об одном аспекте вариантности катойконимов) // Шаги / Steps. 2015. Т. 1. № 1. С. 21–41.
- Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М. М. Собр. соч.: в 7 т. М.: Русские словари; Языки славянской культуры, 2002. Т. 6. С. 5–300.
- Виноградов В. В. Проблема сказа в стилистике // Виноградов В. В. Избранные труды. О языке художественной прозы. М.: Наука, 1980. С. 42–54.
- Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха. Метрика, ритмика, рифма, строфика. М.: Наука, 1984. 320 с.
- Дранникова Н. В. Прозвищный фольклор: к вопросу о локальной идентичности жителей Русского Севера // Первый Всероссийский конгресс фольклористов: сб. докладов. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2006. Т. 3. С. 234–246.
- Захаров В. Н. Система жанров Достоевского: типология и поэтика. Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. 208 с.
- Казарцев Е. В. Стихоподобные фрагменты прозы А. С. Пушкина, А. К. Толстого, Ф. К. Сологуба и Б. Л. Пастернака в контексте эволюции русского стиха // Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова. М.: Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 2017. Вып. 11: Славянский стих / отв. ред. выпуска Т. В. Скулачева. С. 236–245.
- Криничная Н. А. Потолок: проявления верхней границы жилого пространства в крестьянском микрокосме (по материалам народного искусства) // Труды Карельского научного центра РАН. 2011. № 6. С. 29–36.
- Мущенко Е. Г., Скобелев В. П., Кройчик Л. Е. Поэтика сказа. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1978. 288 с.
- Орлицкий Ю. Б. Динамика стиха и прозы в русской словесности. М.: РГГУ, 2008. 845 с.
- Орлицкий Ю. Б. Рифменный (раешный) стих в новейшей русской поэзии // Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова. М.: Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 2017. Вып. 11: Славянский стих / отв. ред. выпуска Т. В. Скулачева. С. 158–170.
- Петров А. М. Фольклорно-литературные связи в творчестве Виктора Пулькина (на материале рассказа «Лазоревый камзол») // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2020. Т. 42. № 5. С. 100–107. DOI: 10.15393/uchz.art.2020.505
- Писатели Карелии: биобиблиографический словарь / сост. Ю. И. Дюжев. Петрозаводск: Острова, 2006. 304 с.
- Рогощенков И. К. В. И. Пулькин // История литературы Карелии. Петрозаводск: ИЯЛИ КарНЦ РАН, 2000. Т. 3. С. 245–254.
- Руденко Ю. К. К проблеме литературного сказа // История и культура. 2002. № 1. С. 46–58.
- [Рыбников П. Н.] Песни, собранные П. Н. Рыбниковым: в 3-х т. / под ред. Б. Н. Путилова. Петрозаводск: Карелия, 1990. Т. 2: Былины / изд. подг. А. П. Разумова, И. А. Разумова, Т. С. Курец. 640 с.
- Старыгина Н. Н. Методика анализа сказа (на материале повести Н. С. Лескова «Очарованный странник») // Жанр и композиция литературного произведения: межвуз. сб. Петрозаводск: ПГУ, 1983. С. 70–84.
- Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. М.: Просвещение, 1976. 448 с.
- Тынянов Ю. Н. Литературное сегодня // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 150–166.
- Хворостьянова Е. В. Ритмический строй севернорусских заговоров // Русский фольклор: мат-лы и исслед. СПб.: Наука, 2004. Т. 32. С. 88–107.
- Шилова Н. Л. Фольклорная фантастика в «Кижских рассказах» Виктора Пулькина // Проблемы исторической поэтики. 2016. № 4. С. 247–261 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1482760511.pdf (01.12.2021). DOI: 10.15393/j9.art.2016.3581
- Эйхенбаум Б. М. Литература. Л.: Прибой, 1927. 300 с.