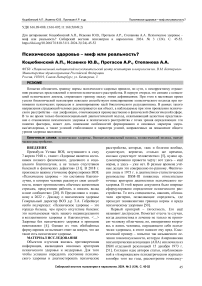Психическое здоровье - миф или реальность?
Автор: Коцюбинский А.П., Исаенко Ю.В., Протасов А.Р., Степанова А.А.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Клиническая психиатрия
Статья в выпуске: 3 (124), 2024 года.
Бесплатный доступ
Попытки обозначить границу нормы психического здоровья привели, по сути, к некорректному отражению размытых представлений о понятии психического расстройства. В первую очередь это связано с концепцией психического диатеза, стирающего границу между этими дефинициями. При этом в настоящее время успехи биологической психиатрии невольно способствуют нивелированию холистического подхода при понимании психических процессов и доминированию идей биологического редукционизма. В рамках такого направления страдающий человек рассматривается как объект, а наблюдаемые при этом проявления психического расстройства - как дисфункции, отмечающиеся преимущественно в физической (биологической) сфере. В то же время только биопсихосоциальный диагностический подход, охватывающий целостное представление о становлении психического здоровья и психического расстройства с точки зрения определяющих эти понятия факторов, может дать понимание особенностей формирования и основных маркеров здоровья/нездоровья, а также условий стабилизации и характера усилий, направленных на повышение общего уровня здоровья населения.
Психическое здоровье, биопсихосоциальный подход, холистический подход, психическое расстройство
Короткий адрес: https://sciup.org/142243203
IDR: 142243203 | УДК: 616.89-008.1:616-092.11:168.5(049.2) | DOI: 10.26617/1810-3111-2024-3(124)-45-52
Текст научной статьи Психическое здоровье - миф или реальность?
Преамбула Устава ВОЗ, вступившего в силу 7 апреля 1948 г., гласит: «Здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов» [31]. В 2018 г. произошло важное уточнение формулировки ВОЗ: «Психическое здоровье – это состояние благополучия, в котором человек реализует свои способности, может противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свое сообщество» [20]. В Предисловии к изданному в 2022 г. Докладу о психическом здоровье Генеральный директор ВОЗ д-р Т.А. Гебрейесус особо подчеркнул: «Психическое здоровье – это гораздо больше, чем просто отсутствие болезни: это неотъемлемая часть нашего индивидуального и коллективного здоровья и благополучия. <…> Здоровье без психического здоровья в принципе невозможно» [4]. Однако из этих обобщённых формулировок не вытекает ответ на вопрос, что же такое есть психическое здоровье.
МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом изучения явилась противоречивая информация, касающаяся основных критериев психического здоровья и нездоровья. Для того чтобы успешно определять состояние психического здоровья и диагностировать психические расстройства, которые, «как и болезни вообще, существуют, вероятно, столько же времени, сколько существует человечество» [5], нужно аргументированно провести черту: вот здесь – ещё норма, а здесь – уже нет. В разные времена учёные делали это совершенно по-разному. Фактически лишь в 1973 г. в диагностико-статистическом руководстве DSM-III появились относительно точные критерии диагностики психического нездоровья. В этой версии документа было впервые сформулировано определение психического расстройства. То есть специалисты, наконец, обозначили критерии, позволяющие определить, где проходит эквивалентная граница нормы и вреда психическому здоровью [50].
Первый критерий – тягостность. Его ещё называют дистрессом. Помогает отсечь те случаи, когда диагностика и лечение не только не приносят человеку облегчение, но, императивно вторгаясь в жизнь человека, ощущающего себя психически здоровым, в итоге наносят ему вред. Классический пример – попытки так называемого лечения гомосексуальности, которую Американская психиатрическая ассоциация (АПА) исключила из DSM отдельной резолюцией 15 декабря 1973 г. [51]. Согласно идее авторов статьи, опубликованной в «Американском психиатрическом журнале» в ноябре того же года, рассмотрение гомосексу- альности как диагноза не имеет смысла, потому что нельзя «настаивать на ярлыке болезни для людей, которые настаивают на том, что у них всё хорошо (т.е. нет субъективных расстройств) и которые не демонстрируют общего ухудшения социальной эффективности» [49]. В своей резолюции АПА заявила: «Мы больше не будем настаивать на присвоении статуса больного лицам, которые утверждают, что они здоровы и не демонстрируют общего снижения социальной эффективности». В заявлении также говорилось о поддержке АПА законодательства о гражданских правах, которое обеспечит «гомосексуальным гражданам ту же защиту, которая сейчас гарантирована другим». В то время в большинстве штатов США всё ещё действовали законы против содомии, вследствие этого открытые гомосексуалы рисковали потерять работу и жильё, а также признание семьи и общества. В резолюции также пояснялось: «Для того чтобы психическое или психиатрическое заболевание считалось психическим расстройством, оно должно либо регулярно вызывать субъективный дистресс, либо регулярно ассоциироваться с каким-либо общим нарушением социальной эффективности или функционирования. За исключением гомосексуальности <...> все остальные психические расстройства, включённые в DSM-II, соответствуют любому из этих двух критериев». В тексте резолюции также подчёркивалось, что если оставить гомосексуальность в статусе диагноза на том лишь основании, что общество и врачи не считают такое поведение «оптимальным», то в DSM тогда следует включить расизм, вегетарианство и мужской шовинизм. Впрочем, и после принятия этой резолюции в США продолжали предприниматься попытки, в значительной степени поощряемые консервативными религиозными группами, «лечения» геев посредством «конверсионной терапии» [51].
Второй критерий – общее нарушение социальной эффективности или функционирования. Означает, что наблюдаемые у пациента симптомы – это объективные либо субъективные проявления какой-то «внутренней поломки». Не будь они такими сильными, продолжительными и вездесущими, то часть из них (при определённых обстоятельствах) могла бы даже быть полезной человеку, но вне особых обстоятельств эти поломки, увы, явно дисфункциональны и приводят к поведенческой, психологической или биологической дисфункции [40]. Так, психические расстройства могут быть вызваны различными ситуациями, например, стратегиями психологической защиты/совладания, не соответствующими дизайну и окружающей среде, в результате чего фенотипы выглядят неадекватными ситуации, хотя в других условиях они были бы вполне адаптивны
[42]. Т.е. дисфункциональный критерий при оценке психических расстройств во многом перекликается с представлением о функциональном диагнозе в психиатрии. В отечественной литературе об этом ещё в 1930-х гг. писал Т.А. Гейер [3], затем эту мысль продолжили развивать в своих публикациях в 1960-х гг. Д.Е. Мелехов [14], в 1980-х В.М. Воловик [1, 2], а в последующем А.П. Коцюбинский с соавторами [8, 9, 10, 11]. Следует напомнить, что функциональный диагноз понимается как целостная характеристика потенциальных адаптационно-компенсаторных возможностей пациента в формате триединого подхода, каждый из которых отражает функциональные нарушения структурных диагностических характеристик (клинико-психопатологических, психологических и социальных) и является закономерным в рамках бипсихосоциальных представлений о природе всех психических расстройств.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обозначив упомянутые выше два основных критерия, создатели DSM-III признавали, что идеально точно провести границу нормы невозможно, поскольку любое определение психического расстройства будет неполным: настолько это сложное понятие. Оговорка дожила до наших дней, её можно найти в последней версии DSM-5, вышедшей в 2022 г. [41]. Неслучайно развитие дименсиональ-ного диагностического подхода сделало необходимым разделение «признаков» психического расстройства, недостаточных для диагностики, и факта наличия психического расстройства, когда указанных признаков оказывается достаточно и когда в итоге констатируется «прототипическое соответствие» состояния пациента диагностируемому психическому расстройству.
Однако так же сложно идеально точно провести границу нормы и с точки зрения определения психического здоровья. Как выясняется, это понятие – не менее сложное, по сути являясь «перевёрнутым отражением» понятия психического расстройства. Если говорить более конкретно, то сложность проведения границы психического здоровья прежде всего связана с концепцией психического диатеза (идеей размытой границы между нормой и патологией), развиваемой в том числе и в отечественной психиатрии. Утверждение этой теории явилось следствием того, что в середине XX века пастеровская общемедицинская парадигма в значительной мере была пересмотрена, устаревшие представления уступили место концепции о психосоциальной сенситивности (в форме генетической/психологической уязвимости или психического диатеза), а также теории Ганса Селье о стрессе как неспецифическом адаптационном синдроме [22].
В отечественной психиатрии истоки представления о диатезе лежат во введённом А.В. Снеж-невским [28] определении pathos (греч. πάθος – страдание, страсть, воодушевление) и развиваемой С.Б. Семичовым [23] концепции предболез-ни. Эта теория получила дальнейшее развитие в работах С.Ю. Циркина [36] в Москве и ряда сотрудников НМИЦ ПН (до 2017 г. СПб НИПНИ) им. В.М. Бехтерева в Санкт-Петербурге [18, 37] в виде конкретизации и детализации представлений о психическом диатезе как о пограничном состоянии между «практическим здоровьем» и областью «малой психиатрии».
Согласно установившемуся в итоге кон-сенсyнсному представлению, психический диатез понимается как совокупность признаков, характеризующих предрасположенность человека к психической патологии. В контексте этого понятия рассматриваются концепция шизотипического диатеза [6, 7], концептуальные разработки по неспецифическому психопатологическому диатезу [35, 36], этиопатогенетическая модель «уяз-вимость-диатез-стресс-заболевание» [12], идеи о психосоматическом [13, 29] и психовегетативном 21] диатезе. Последующее развитие представлений о диатезе, обусловливающем сенсиби-лизированность человека к психическим расстройствам, имеет важное значение не только для понимания формирования психического расстройства в патогенетической цепочке «уязви-мость-диатез-стресс-заболевание» [48], но и для выделения «группы риска» и разработки психопрофилактических и психогигиенических мероприятий с целью предупреждения психических расстройств.
Помимо фактора «размытой.» границы, отделяющей норму от психического расстройства, дискуссионными остаются сущность и содержание психического расстройства.
ОБСУЖДЕНИЕ
В основе затянувшейся и до сих пор не разрешенной диагностической коллизии лежит сложность дуалистической природы человека, породившая материалистическое и идеалистическое представление об организации психики, а внутри психиатрического консорциума – «физиков» и «лириков», яростно спорящих между собой, что на практике радикализировало развитие психиатрии в сторону либо биологического редукционизма, либо так называемой антропологической психиатрии. В настоящее время, которое в общефилософском плане характеризуют концептуальный релятивизм и плюрализм, возобладало гибридное сочетание эволюционно-популяционной (лирической) риторики при фактическом доминировании естественно-научных (преимущественно биогенетических) исследований.
Попытка определения психических расстройств на основе лишь биологических критериев – априори ущербна. Дело в том, что психическое расстройство не может быть определено только физической или биологической дисфункцией [45], в свою очередь психопатологическая симптоматика, помимо биологических, имеет также психологические корни. Иными словами, она не «возникает в мозге по неизвестным причинам», как чудесный фактор Deus ex machina [38], а равно не представляет собой некий секрет деятельности мозга (подобный желчи как секрету печени). Психическое расстройство является ответом на биологические, психологические, социально-культуральные и социально-экономические стрессоры и выступает в форме согласованного – при нераскрытости по сей день самого механизма согласования! – биологического и психологического адаптационно-компенсаторного взаимодействия, происходящего в недрах психики индивидуума. Баланс указанного взаимодействия определяет адаптированное и/или дезадаптированное развитие человека (онтогенетически и филогенетически) как единого элемента в его макро-и микросреде [30], оказывая значительное влияние на заболеваемость и смертность [39].
В противовес биологизации психиатрии весьма агрессивными, хотя и малопродуктивными, являются обвинения сторонников так называемого антропологического подхода (преимущественно в психоаналитической и психологической литературе, но не только в ней), стремящихся под флагом гуманизации психиатрии переместить вектор дискуссии из сферы научного обсуждения в пространство публицистических оценок. Некоторые исследователи заходят так далеко, что начинают использовать ненаучные в рамках медицины понятия «духа» и «духовных расстройств», отсылающие скорее к религии и идеологии, а не психологии и психиатрии. Сторонники такого далёкого от научности подхода предпринимают попытку описания феноменов «духовно-нравственного (ментального) здоровья» и «ментальных (духовно-нравственных) недугов» [26] с выделением особой ментальной медицины как некой синергетической науки, изучающей биопсихосоциодуховные ресурсы развития личности и общества и, как полагают сторонники данного подхода, интегрирующей традиционные нозоцентрические ресурсы клинической психиатрии и здравоцентрический потенциал ментальной превентологии (науки о поддержании оптимального уровня ментального здоровья на основе общественного морально-нравственного благополучия). В этих условиях тренд на расширение границ психиатрических классификаций за счёт включения всё новых поведенческих и аддиктив-ных расстройств, рассматриваемых представите- лями так называемой антропологической психиатрии в русле теологических или паратеологиче-ских воззрений, фактически приводит к замене психиатрической стигматизированности на идеологическую стигматизированность. Данное направление квазинаучной мысли, как нетрудно понять, способно разрушить основы психиатрических знаний, а также дискредитировать психиатрическую практику. Вполне закономерно этот тренд уже получил в литературе название «научной антипсихиатрии» [15, 16, 27, 43, 46, 47]. Такой подход с использованием в клинической оценке морализаторских категорий представляет собой попытку «медикализации» и «психиатриза-ции» обыденной жизни, т.е. терминологической патологизации общества, которому, якобы, грозят духовно-социальные эпидемии и болезни. Под этими духовными недугами понимается любое кажущееся таковым самозваному «духовному лекарю» общественное явление, способное, по его мнению, «угрожать общественному здоровью и национальной безопасности всей страны в целом <…>, раскручивая интенсивность эпидемического процесса до пандемии, охватывающей не только страны, но и континенты» [25]. Всё это, как представляется, лишний раз свидетельствует о том, что для своего гармоничного развития психиатрия как наука должна быть свободна от социально-идеологической конъюнктуры, когда в качестве основы для определения «нормальности» массы людей выступает морально-нравственная оценка их поведения либо их социальные достижения (по сути, карьерный рост).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, для науки о человеческой психике очень важно сохранять конструктивный характер полемики между сторонниками гуманитарного и естественно-научного направлений, позволяющий им слышать друг друга и взаимно обогащаться результатами наблюдений и открытий. На это и нацелен интегративный по своей сути биопсихосоциальный подход [44], основы которого более 100 лет назад заложил академик В.М. Бехтерев [17], предполагающий определение множества формирующих факторов психического расстройства, непрерывно находящихся во взаимодействии. С одной стороны, генетических, эпигенетических, онтогенетических, с другой – психического стресса, рассматриваемого как важное звено биопсихосоциальных представлений о механизмах развития личностных расстройств и манифестации психических расстройств [19]. Детальная оценка факторов риска формирования разнообразной психической патологии на основе биопсихосоциального подхода сделана В.Я. Семке [24]. В контексте поставленной проблемы научный интерес представляют также исследова- ния А.Б. Холмогоровой с соавт. в области изучения биопсихосоциальной модели [32, 33, 34].
Такой подход находится в полном соответствии с докладом ВОЗ (2022) [4] о положении дел в области охраны психического здоровья в мире, призывающем к принятию мер по трем главным направлениям, ориентированным на повышение уровня психического здоровья населения: повышение ценности психического здоровья в представлении отдельных людей, общества в целом и государственной власти; в соответствии с осознанием этой ценности обеспечение необходимых обязательств, взаимодействия и инвестиций со стороны всех заинтересованных сторон и во всевозможных секторах; преобразование физических, социальных и экономических характеристик окружающей среды – на дому и рабочем месте, в учебных заведениях и в целом на уровне местного общества для более эффективной защиты психического здоровья и профилактики психических расстройств; укрепление системы охраны психического здоровья, с тем чтобы спектр фундаментальных потребностей в области психического здоровья удовлетворялся посредством сети оказания доступных, недорогостоящих и качественных услуг и поддержки на уровне общин.
Список литературы Психическое здоровье - миф или реальность?
- Вайзе К., Воловик В.М. Функциональный диагноз как клиническая основа восстановительного лечения и реабилитации психически больных. Клинические и организационные основы реабилитации психически больных. М.: Медицина, 1980. С. 152-206.
- Воловик В.М. О приспособляемости больных шизофренией. Реабилитация больных психозами. Л.: Ленингр.науч.-исслед. психоневрол. ин-т, 1981. С. 62-71.
- Гейер Т.А. Трудоспособность при шизофрении. Современные проблемы шизофрении. М.: Биомедгиз, 1933. С. 106-111.
- Доклад о психическом здоровье в мире: охрана психического здоровья: преобразования в интересах всех людей. Краткий обзор. Женева: ВОЗ, 2022. 28 с.
- Кербиков О.В., Озерецковский Н.И., Попов Е.А., Снежневский А.В. История и современные течения психиатрии: учебник психиатрии. Глава 2. М.: Медгиз, 1958. С. 8.
- Козловская Г.В., Горюнова А.В. Нервно-психическая дезинтеграция в раннем онтогенезе детей из группы высокого риска по эндогенным психическим заболеваниям. Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 1986. № 10. С. 1534-1538.
- Горюнова А.В., Козловская Г.В., Римашевская Н.В. К вопросу о нейропсихическом диатезе у детей раннего возраста из группы высокого риска по эндогенным психозам. Проблемы шизофрении детского и подросткового возраста / под ред. М.Ш. Вроно. М.: ВНЦПЗ, 1986. С. 104-114.
- Коцюбинский А.П. Многомерная (холистическая) диагностика в психиатрии (биологический, психологический, социальный и функциональный диагноз). СПб.: СпецЛит, 2017. 285 с.
- Коцюбинский А.П., Шейнина Н.С., Аристова Т.А., Бурковский Г.В., Бутома Б.Г. Функциональный диагноз в психиатрии. Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева. 2011. № 1. С. 4-8.
- Коцюбинский А.П., Шейнина Н.С., Бурковский Г.В., Аристова Т.А., Бутома Б.Г. Функциональный диагноз в психиатрии. СПб.: СпецЛит, 2013. 231 c.
- Коцюбинский А.П., Зайцев В.В. Функциональный диагноз: теоретическая конструкция или реальный феномен? Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева. 2004. № 1. С. 7-10.
- Коцюбинский А.П., Скорик А.И., Аксенова И.О., Шейнина Н.С., Зайцев В.В. Шизофрения: уязвимость-диатез-стресс-заболевание. СПб.: Гиппократ, 2004. С. 117-137.
- Коцюбинский А.П., Шейнина Н.С., Пенчул Н.А. Предвестники психического заболевания. Сообщение 2. Психосоматический диатез. Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева. 2013. № 3. С. 11-16.
- Мелехов Д.Е. Клинические основы прогноза трудоспособности при шизофрении. М.: Медицина, 1963. С. 198.
- Менделевич В.Д. Классификация психических расстройств VS. Систематика поведенческих девиаций: медикализация как тренд. Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева. 2016. № 1. С. 10-16.
- Менделевич В.Д. Фейк-диагнозы в психиатрических классификациях. Неврологический вестник. 2018. Т. L, № 4. С. 15-18. doi: https://doi.org/10.17816/nb14127.
- Незнанов Н.Г., Акименко М.А., Коцюбинский А.П. Школа В.М. Бехтерева: от психоневрологии к биопсихосоциальной парадигме. СПб.: Альта Астра, 2017. С. 457.
- Незнанов Н.Г., Коцюбинский А.П., Мазо Г.Э. Биопсихосоциальная психиатрия. Руководство для врачей. М.: Медицинская книга, 2020. 904 с.
- Психиатрия. Национальное руководство / гл. ред. Ю.А. Александровский, Н.Г. Незнанов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 1008 с.
- Психическое здоровье: информационный бюллетень о Целях в области устойчивого развития: задачи, связанные со здоровьем. Женева: ВОЗ, 2018. 9 с. https://iris.who.int/handle/10665/340849
- Северный А.А. Психовегетативный диатез. Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста / под ред. С.Ю. Циркина. СПб.: Питер, 1999. С. 338-339.
- Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме. М.: Медгиз, 1960. C. 254.
- Семичов С.Б. Предболезненные психические расстройства. Л.: Медицина, 1987. С. 182.
- Семке В.Я. Превентивная психиатрия: руководство для врачей и студентов. Томск: Изд-воТом. ун-та, 1999. 403 с.
- Сидоров П.И., Бочарова Е.А., Яковлева В.П. Синергетическая парадигма социальной эпидемии невротических расстройств у детей. Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева. 2015. № 3. С. 22-31.
- Сидоров П.И., Новикова И.А. Ментальная медицина: руководство. М.: Литтерра, 2014. 728 с.
- Снедков Е.В. Личность в призме психиатрического менталитета (комментарий к статье В.Д. Менделевича). Часть1. Неврологическийвестник. 2016. № 4. С. 47-57.
- СнежневскийА.В. Nosos et pathos schizophreniae. Шизофрения: мультидисциплинарное исследование. М.: Медицина, 1972. С. 5-15.
- Сукиасян С.Г. Психосоматический диатез как составляющая концепции «непсихиатрическая психиатрия». Sciences of Europe. 2021. № 72. С. 11-22. doi:10.24412/3162-2364-2021-72-1-11-22.
- Сукиасян С.Г., Манасян Н.Г., Чшмаритян С.С. Соматизированные психические нарушения. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2001. Т. 101, № 2. С. 57-61.
- Устав (Конституция) ВОЗ. Основные Документы. Сорок восьмое издание. Женева, ВОЗ, 2014. С. 1-2.
- Холмогорова А.Б. Биопсихосоциальная модель как методологическая основа изучения психических расстройств. Социальнаяиклиническаяпсихиатрия. 2002. Т. 12, № 3. С. 97-104.
- Холмогорова А.Б. Обострение борьбы парадигм в науках о психическом здоровье: в поисках выхода. Социальнаяиклиническаяпсихиатрия. 2014. Т. 24, вып. 4. С. 53-61.
- Холмогорова А.Б., Рычкова О.В. 40 лет биопсихосоциальной модели: что нового? Социальнаяпсихологияиобщество. 2017. Т. 8, № 4. С. 8-31. doi: 10.17759/sps.2017080402.
- Циркин С.Ю. Концептуальная диагностика функциональных расстройств: диатез и шизофрения. Социальнаяиклиническаяпсихиатрия. 1995. Т. 5, № 2. С. 114-118.
- Циркин С.Ю. Концепция психопатологического диатеза. Независимый психиатрический журнал. 1998. № 4. С. 5-8.
- Шейнина Н.С., Коцюбинский А.П., Скорик А.И., Чумаченко А.А. Психопатологический диатез. СПб.: Гиппократ, 2008. 128 с.
- Шостакович В.В. Нозологическое единство шизофрении. Шизофрения. Доклады на Всесоюзном совещании по проблеме шизофрении. М., 1962. С. 92-105.
- Adler NE, Boyce WT, Chesney MA, Folkman S, Syme SL. Socioeconomic inequalities in health. No easy solution. JAMA. 1993 Jun 23-30;269(24):3140-5. PMID: 8505817.
- American Psychiatric Association (APA). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Washington, DC: APA, 1980:6.
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR). Washington, DC: American Psychiatric Publishing. 2022:1051.
- Bolton D. Mental disorder and human nature. What Is Mental Disorder? An Essay in Philosophy, Science, and Values. Oxford: Oxford University Press, 2008: 103-62.
- Conrad P, Schneider JW. Deviance and from badness to sickness. Philadelphia: Temple University Press, 1992:263-265.
- Engel GL. Sounding board. The biopsychosocial model and medical education. Who are to be the teachers? N Engl J Med. 1982 Apr 1;306(13):802-5. doi: 10.1056/NEJM198204013061311. PMID: 7062955.
- Jaegwon K. Mental causation and consciousness. Physicalism, or Something Near Enough. New Jersey: Princeton University Press, 2005:1-29.
- Лехциер В.Л. Эффекты медикализации и апология патоса. Вестник Самарской гуманитарной академии. Выпуск Философия. Филология. 2006. № 1 (4). С. 113-125.
- Moynihan R, Smith R. Too much medicine? BMJ. 2002 Apr 13;324(7342):859-60. doi: 10.1136/bmj.324.7342.859. PMID: 11950716; PMCID: PMC1122814.
- Rosenthal D, Wender PH, Kety SS, Welner J, Schulsinger F. The adopted-away offspring of schizophrenics. Am J Psychiatry. 1971 Sep;128(3):307-11. doi: 10.1176/ajp.128.3.307. PMID: 5570995.
- Stoller RJ, Marmor J, Bieber I, Gold R, Socarides CW, Green R, Spitzer RL. A symposium: Should homosexuality be in the APA nomenclature? Am J Psychiatry. 1973 Nov;130(11):1207-16. doi: 10.1176/ajp.130.11.1207. PMID: 4784866.
- Telles-Correia D, Saraiva S, Gonçalves J. Mental Disorder-The Need for an Accurate Definition. Front Psychiatry. 2018 Mar 12;9:64. doi: 10.3389/fpsyt.2018.00064. PMID: 29593578; PMCID: PMC5857571.
- The American Psychiatric Association removes homosexuality from its list of mental illnesses [Электронныйресурс]. This Day in History.December 15, 1973.