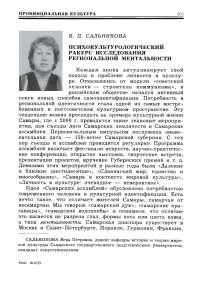Психокультурологический ракурс исследования региональной ментальности
Автор: Сальникова Вера Петровна
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Провинциальная культура
Статья в выпуске: 4 (61), 2007 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются региональные аспекты феномена менталитета. На примере культуры Самарской области анализируются потребности современного человека в адекватной самоидентификации. Представление о региональном менталитете специализируется на понятии «Homo Sapience».
Короткий адрес: https://sciup.org/147222406
IDR: 147222406
Текст научной статьи Психокультурологический ракурс исследования региональной ментальности
Каждая эпоха актуализирует свой подход к проблеме личности в культуре. Отказавшись от модели «советский человек — строитель коммунизма», в российском обществе начался активный поиск новых способов самоидентификации. Потребность в региональной идентичности стала одной из самых востребованных в постсоветском культурном пространстве. Эту тенденцию можно проследить на примере культурной жизни Самары, где с 2000 г. проводятся такие знаковые мероприятия, как съезды лиги Самарских землячеств и Самарские ассамблеи. Первоначальным импульсом послужила знаменательная дата — 150-летие Самарской губернии. С тех пор съезды и ассамблеи проводятся регулярно. Программа ассамблей включает фестивали искусств, научно-практические конференции, открытие выставок, творческие встречи, презентации проектов, вручение Губернских премий и т. д. Девизами этих мероприятий в разные годы были «Далекие и близкие шестидесятые», «Славянский мир: единство и многообразие», «Самара в контексте мировой культуры», «Личность в культуре: очевидное — невероятное».
Идея «Самарских ассамблей» обусловлена потребностью современного человека в культурной идентификации. Есть нечто такое, что отличает жителей Самары, самарчан от несамарчан. Мы говорим «самарский дух», «самарские красавицы», «самарские водохлебы» и понимаем, что отлйчие это касается не разреза глаз, формы носа или цвета кожи, а типа ментальности. Самарская диаспора существует в Москве и Санкт-Петербурге, Израиле, Германии, Франции,
САЛЬНИКОВА Вера Петровна, доцент кафедры истории и теории мировой культуры Самарского государственного педагогического университета, кандидат искусствоведения.
Заказ №6759
США, Африке и Австралии. С другой стороны, люди приезжают в Самару из разных городов и стран, оседают здесь, ассимилируются, интегрируются в культуру и становятся самарцами, самарчанами, самаричами, самарянами ... На время ассамблей Самара как alma mater собирает своих «детей», окружая их вниманием и любовью, радуясь их успехам и воздавая должное достойным. Ученые, педагоги, артисты, писатели, художники, бизнесмены, нынешние и бывшие самарцы имеют возможность осознать себя «Ното samarus»’aMH.
Культурная идентификация на регионально-ментальном уровне — знак нового времени. При советской власти в индустриальном Куйбышеве с его оборонной промышленностью и закрытыми предприятиями («почтовыми ящиками») все были «советским народом», «строителями коммунизма», «ударниками социалистического труда», «победителями соцсоревнования» — «Homo soveticus». В 90-е гг. XX в. в противовес унифицированному образу «Homo soveticus» стало актуальным понятие «мы — россияне». Предлагая дефиницию «Homo samarus», мы отдаем себе отчет в том, что нас можно заподозрить в научной провокативности и излишней публицистичности. Но в данном случае это оправдано желанием обозначить проблему и привлечь к ней внимание специалистов разного профиля — кабинетных ученых и практиков «культурного строительства». В своих рассуждениях о феномене «Homo samarus» мы исходим из двух положений: сущность культуры выражают религия, этика и искусство; вектор культурной идентичности следует исследовать при помощи культурологических идей.
Л. Н. Гумилев в своей этно-пассионарной концепции объяснял зависимость культуры и образа «Homo cultus» («человека культурного») от ландшафта, климата и т. д. Самарская Лука — красивейшее место в мире, вид на Волгу, открывающийся, например, с так называемой «вертолетной площадки», излучает столь сильную энергетику, что этот культурный ареал можно назвать «самарской Шамбалой». В совокупности с благоприятным климатом природный ландшафт Среднего Поволжья формирует срединный тип менталъности. «Homo samarus»’y присущи толерантность, доброжелательность, миролюбие. В самарской истории не было столкновений на национальной или религиозной поч- ве, и даже смена власти в 1917 г. прошла здесь мирным путем, без восстаний и кровопролития. Однако не является ли оборотной стороной терпимости равнодушие, безразличие и социальная апатия? «Самара, которую мы потеряли» — так можно озаглавить экскурсионный маршрут по улицам старого города. Среди безвозвратных потерь — памятник Александру II, образцы деревянного зодчества, здание цирка-театра «Олимп», железнодорожный вокзал, Воскресенский кафедральный собор на центральной площади города.
Самарцы любят свой город, но «странною любовью»: умозрительно, созерцательно, отстраненно. Вот, например, топонимика. Она во многом определяет микроклимат в обществе, расставляет культурные акценты. Не странно ли, что ул. Больничная переходит в улицу Клиническую, а та — в Лунную, на которой располагается морг и городское кладбище? Улица Коммунистическая ведет к рынку, а ул. Демократическая — в лес... Разбитые дороги, горы мусора на улицах, в парках и на набережной, нищие, побирающиеся в общественном транспорте — приметы современной Самары. Не вызывают активного противодействия объекты городского ландшафта, не выдерживающие критики с эстетической точки зрения и явно находящиеся за пределами хорошего вкуса: мрачный монолит Дворца культуры им. Куйбышева, крошечная фигурка Ленина на чужом постаменте, типовые офисные и жилые здания, «убивающие» облик старой доброй Самары своей многоэтажностью и вульгарным глянцем.
Самарское Заволжье издавна имело славу разбойного места, прибежища беглых крестьян, обители народной вольницы. Достопримечательностью города были знаменитые самарские горчичники (местная шпана, хулиганы, которые мазали горчицей под носом своих жертв). С другой стороны, Самара — благословенный город, где, согласно пророчеству святителя Алексия, «процветет благочестие и который никогда не будет разрушен врагами». Что касается благочестия, то оно легко монтируется с понятием «срединная ментальность». С тезисом «не будет разрушен врагами», кажется, можно согласиться. Даже Великая Отечественная война в прямом смысле не принесла Самаре разрушений. А в переносном? С каким пафосом у нас говорится о Самаре — тыловой столице, мировой премьере Седьмой симфонии Шостаковича, эвакуированном бомонде, бурном росте промышленности после войны, благодаря эвакуированным заводам! Вплоть до утверждения, что всему народу — горе, а Самаре — взлет исторических амбиций.
Самара — слово женского рода. «Самые красивые девушки — в Самаре»: этот тезис не нуждается в аргументации, но, тем не менее, сделаем некоторые уточнения. Раньше никому бы и в голову не пришло, что в Куйбышеве самые красивые девушки. Красота не была тогда в почете, в женщинах ценились совсем другие качества. Как только 15 лет назад городу было возвращено его исконное имя — девушки сразу «похорошели», появился бренд «самарские красавицы» и стал энергично раскручиваться в СМИ, бизнес-проектах и т. д. Теперь «Homo samarus» ассоциируется, прежде всего, с красивыми и вольнолюбивыми девушками. Их благородная, утонченная красота якобы ведет свою историю от придворных красавиц императрицы Екатерины II, которых она ссылала сюда во избежание конкуренции. На старинных картах территория Среднего Поволжья обозначалась как «Амазония». Считается, что здесь обитали амазонки, и поэтому самарские красавицы наследуют темперамент античных женщин-воительниц. Красота и свободолюбие «самарских амазонок» в сочетании с благочестием образуют «гремучую смесь» и мужчины-«Ното samarus»’ы робеют перед ними. Иначе как объяснить тот факт, что согласно данным статистики, за последние 10 лет население Самары сократилось на 100 тыс. человек.
Феномен «Homo samarus» можно рассмотреть как архетип, прафеномен, гештальт, образ. Эти конструкции сложно описать научными понятиями, структурировать, но можно приблизиться к их пониманию с помощью метода аналогий, ассоциаций, метафор. Для этого мы должны накопить культурные символы, идеи, осмыслить их в контексте мировых традиций и выразить в адекватной форме. Самару начала XX в. называли «русским Чикаго или Новым Орлеаном», «маленьким Парижем», Жигули — «Русской Швейцарией». Что может быть культурным символом Самары? Герб, гимн, слоган («Самара сильная и просвещенная» — на наш взгляд, противоречит «вечно женственному» образу города), знаковые персонажи культурной истории, артефакты искусства. Марк Шагал, например, говорил: «Париж — город с башней, почти Вавилон, Витебск — город с храмом, почти
Иерусалим». А что является архитектурным символом Самары? Наш город знаменит своим архитектурным модерном. Может быть, в этом направлении надо поискать ответ на вопрос: «Кто же ты, «Homo samarus?»
Итак, кто же ты, «Homo samarus»: милый, интеллигентный провинциал или бездушный маргинал? Кто мы, живущие и работающие в Самаре, учителя и ученики, родители и дети, пассажиры и пешеходы, покупатели, запросто перемещающиеся из «Колизея» в «Вавилон», из «Аквариума» в «Пирамиду»? Самоопределение в культуре важно как в плане личного самосовершенствования, так и политике, жизни общественных институтов, сфере искусства и т. д. Мы хотим запечатлеть себя в вечности, представить себя в контексте мировой культуры, не потеряв при этом «лица необщее выражение».