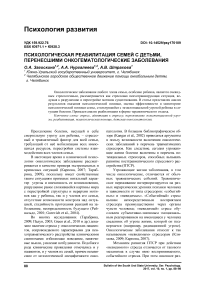Психологическая реабилитация семей с детьми, перенесшими онкогематологические заболевания
Автор: Загоскина Ольга Александровна, Нургалеева Алина Артуровна, Штрахова Анна Владимировна
Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu
Рубрика: Психология развития
Статья в выпуске: 1 т.10, 2017 года.
Бесплатный доступ
Онкологическое заболевание любого члена семьи, особенно ребенка, является очевидным стрессогенным, рассматривается как стрессовая психотравмирующая ситуация, ведущая к разрушению и перестройке мотивов существования. В статье представлен анализ результатов оказания психологической помощи, оценка эффективности и мониторинг психологической помощи семье, столкнувшейся с экзистенциальной угрозой ребенка в ситуации болезни. Проведен анализ реабилитации в форме терапевтического отдыха.
Стресс, адаптация к стрессу, переживание экзистенциальной угрозы, реабилитация, психологическая помощь, детская онкогематология
Короткий адрес: https://sciup.org/147160056
IDR: 147160056 | УДК: 159.922.76 | DOI: 10.14529/psy170109
Текст научной статьи Психологическая реабилитация семей с детьми, перенесшими онкогематологические заболевания
Преодоление болезни, несущей в себе смертельную угрозу для ребенка, – стрессовый и травматичный фактор для всей семьи, требующий от неё мобилизации всех имеющихся ресурсов, перестройки системы взаимодействия всех членов семьи.
В настоящее время в клинической психологии онкологическое заболевание рассматривается в качестве примера экстремальных и кризисных ситуаций (Карпова, 2007; Тараб-рина, 2009), поскольку имеет свойственные таким ситуациям признаки: витальный характер угрозы и внезапность ее возникновения, разрушение ранее сложившейся картины мира с перестройкой структуры и иерархии мотивов как у ребенка, так и у членов его семьи, отсутствие возможности контроля над ситуацией, стадийность протекания реакций на заболевание, неопределенность будущего (Рейнальдо, 2001; Gurevich et al., 2004).
Во многих исследованиях (Тарабрина, 2009; Падун, 2003; Green et al., 2010 и др.) доказано наличие стресса у онкологических пациентов, сопровождаемого характерными для психотравматического расстройства клиническими симптомами: избегающее поведение, навязчивые мысли, усиление возбудимости. Подобного рода клинические проявления отмечались и у пациентов, и у членов их семей, причем независимо от нозологической специфичности онко- патологии. В большом библиографическом обзоре (Kangas et al., 2002) приводятся аргументы в пользу возможности включения онкологических заболеваний в перечень травматических стрессоров. Как следствие, сегодня угрожающие жизни болезни включены в перечень потенциальных стрессоров, способных вызывать развитие посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).
Угрожающие жизни заболевания, в том числе онкологические, отличаются от обычных травматических событий. Травматическое переживание интериоризируется на разных иерархических уровнях психики человека в зависимости от типа стрессоров: «событийных» и «невидимых». «Событийный» стресс вызван непосредственным восприятием стрессора преимущественно через органы чувств человека; «невидимый» стресс обусловлен субъективно-значимым эмоциональным реагированием на имеющиеся у человека сведениях об угрозе жизни, которой он подвергается (например, радиационной угрозе). Онкологические заболевания относят к так называемым «невидимым» стрессорам (Климова, 2009; Карпова, 2007).
Механизм развития ПТСР при действии «невидимого» стресса отличается от такового механизма в случае явно воспринимаемого, событийного стресса. При этом основное раз- личие лежит в плоскости уровней восприятия и интериоризации травматического переживания. Восприятие и оценка возможных неблагоприятных последствий воздействия стрессогенных факторов базируются, с одной стороны, на рациональном знании об их наличии и, с другой стороны, на неосознаваемом или лишь частично осознаваемом эмоциональном переживании страха по поводу влияния этих факторов на жизнь и здоровье человека. Исследований, посвященных изучению проблем переживания воздействия «невидимых» стрессоров в литературе немного (Тарабрина, 2009; Карпова, 2007).
Онкологическое заболевание представляет для пациентов не только угрозу жизни, но и пролонгированное снижение качества жизни, поскольку для многих такая ситуация становится хронической. В этом, прежде всего, и представляется стрессогенная опасность онкологических заболеваний, в отличие от событийных видов травм. Последние, как правило, являются событиями прошлого, запечатленными в памяти и влияющими на настоящее. Специфические симптомы ПТСР, прежде всего, навязчивые мысли о травматическом событии, могут не быть воспроизведением актуальных событий, поскольку сам факт выявления онкологического заболевания или воздействия токсичного лечения более ориентированы на угрозу будущего и качество жизни в настоящем (Pitman, 2001).
Кроме того, специфика угрожающих жизни болезней состоит в том, что фактор влияния исходит не из внешней среды, как при других травмах, а изнутри организма – его нельзя «отделить» от индивида. Эти факты качественно отличают переживания человека с онкологическим заболеванием от людей, перенесших событийный стресс, и обусловливают специфичность механизмов развития посттравматических состояний.
Аспекты лечения онкологического заболевания могут выступать в качестве событийного стресса – необходимость проведения дорогостоящего лечения, операционного вмешательства, последующей химеотерапии, прохождение постоперационной периода – все эти методы являются дополнительным или самостоятельным источником стрессового воздействия.
При оценке психотравмирующей ситуации, связанной с онкологическим заболеванием, основное значение для больных имеют следующие факторы:
-
1. Сведения, способствующие формированию чувства утраты контроля над происходящими событиями: субъективно тяжелые проявления основного заболевания; неблагоприятный прогноз; запоздалая диагностика; мало разработанные методы лечения для некоторых форм онкопатологии; преобладание нерадикальных методов лечения; частые повторные курсы химио‐лучевой терапии и др. Невозможность контролировать свою жизнь в болезни может приводить в целом к потере жизненной перспективы и смысла жизни.
-
2. Влияние общественных представлений об опасности этого заболевания для жизни, мучительность которого определяется семантикой болезни.
-
3. Наличие существенных ограничений, налагаемых на бытовую, повседневную и профессиональную деятельность, существенно меняющих качество жизни.
-
4. Хронический характер заболевания, при котором на протяжении длительного времени, прошедшего после завершения лечения, остается переживание больным ощущения постоянной угрозы собственной жизни. Онкологическому больному никто и никогда не может дать гарантии окончательного выздоровления, и вся его дальнейшая жизнь проходит под знаком неопределенности.
-
5 При заболевании актуализируются экзистенциальные проблемы (конечность жизни, одиночество, смысл жизни), которые здоровыми людьми часто не осознаются, и в обычной жизни (прежде всего до болезни) им нередко не уделяется внимание. Переживание экзистенциальных проблем придает душевным страданиям больного тягостный характер. Экзистенциальное одиночество переплетается с социальной изоляцией: окружающие часто не знают, как себя вести с заболевшим, хотя и готовы оказать ему помощь. При этом сам больной не может активно принять предлагаемую ему помощь, поскольку находится в состоянии погруженности в свои переживания (Гусева, 2009; Тарабрина, 2009; Падун, 2003; Green et al., 2010).
Благодаря успехам современной медицины, в последние десятилетия увеличилась продолжительность жизни детей с онкологическими заболеваниями, а значительной их части удается добиться практического выздоровления. По данным Британского института исследования рака каждый год в мире регистрируется 14 млн новых случаев онкологиче- ских заболеваний, а в России, по данным ВОЗ, к 2014 году из 100 000 тысяч детей 12,5 тысяч имеют онкологический диагноз. В Челябинской области ежегодно впервые получают онкологическую помощь 120–130 детей в возрасте от 0 до 18 лет. Около 80 % таких детей выходят в ремиссию (т. е. у них достигается выздоровление, но о его устойчивости нельзя говорить до достижения по крайней мере 5 лет ремиссии).
После окончания основного этапа лечения семья вновь сталкивается с множеством трудностей, с необходимостью адаптации к онкологическому заболеванию и совладания с его последствиями, возвращению к прежнему образу жизни (Мирошкин, 2010). Таким образом, достаточно остро встает вопрос о психологической реабилитации, направленной на минимизацию вреда от полученной во время болезни и лечения психической травмы. Очевидно, что комплексные меры реабилитации детей зависят от среды, в которой они воспитываются и развиваются. Следовательно, включение в мероприятия по реабилитации всех членов семьи, особенно родителей и сиблингов, позволит реализовать комплексный подход к реабилитации (Ми-рошкин, 2012).
Описываемое в публикации исследование проводилось в рамках деятельности Челябинского городского общественного движения помощи онкобольным детям «Искорка». В исследовании принимали участие семьи с детьми, перенесшими онкогематологические заболевания с благоприятным исходом терапии. Одним из критериев исключения являлась потеря семьей заболевшего ребенка либо назначение ему паллиативного лечения.
Исследование строилась на следующих принципах:
-
1) добровольность участия в исследовании с возможностью выбытия по субъективным обоснованиям (по причине продолжения лечения, переезда или другим причинам);
-
2) личностный подход и безоценочность в отношении к участникам исследования которые подразумевают составление индивидуального плана работы с каждой конкретной семей, учет ее потребностей и особенностей;
-
3) принцип психологической комфортности предполагает создание доверительной, раскованной, стимулирующей активность человека атмосферы с опорой на внутренние мотивы.
Дизайн исследования
Исследование проводилось с учетом опыта проводившегося в 2015 г. пилотного проекта, а также с учётом опыта других мероприятий, проводившихся другими аналогичными общественными организациями, и выполнялось в течение 2015–2016 годов на протяжении 2 этапов:
-
1. Первый этап (длительностью с марта 2015 г. по январь 2016 г.) – реализация проекта «Мобильная социально-психологическая служба» помощи семьям с детьми, перенесшими онкогематологическое заболевание. На этом этапе была проведена диагностика внутрисемейных отношений участников проекта, реализованы следующие мероприятия: индивидуальные консультации для родителей и детей, семейные консультации, групповая арт-терапевтическая работа для семей, проживающих в г. Челябинске и Челябинской области. Индивидуальная работа на этом этапе вмешательства проводилась в рамках недирективной игровой терапии, в индивидуальной и групповой работе с семьями применялась арт-терапия и мульт-терапия. Подбор батареи методик проводился с учетом возрастных и психологических особенностей участников исследования и ситуации заболевания в целом. В частности, для исследования последствия психотравмирующей ситуации смертельной болезни были выбраны проективные методики, не затрагивающие напрямую ситуацию болезни.
-
2. Второй этап (длительностью с июня 2016 г. по июль 2016 г.) – реализация проекта «Выездной летний лагерь для детей, переболевших онкологическим заболеванием и их сиблингов». На этом этапе применялась модель терапевтического отдыха как составляющая системы психологического сопровождения, проводилась оценка результатов психологической помощи в рамках этой модели, психодиагностика и сравнительный анализ «образа Я» переболевших детей и их сиблингов, тренинг для гармонизации «образа Я».
Имелась преемственность между двумя проектами: 9 семей из 15 принявших участие в исследовании были участниками и первого, и второго проектов. На первом этапе реабилитации в ситуации чрезвычайной экзистенциальной угрозы работа сводилась к помощи непосредственно больному ребенку и ухаживающему родителю. На втором этапе большее
(чем на первом этапе) внимание уделялось сиблингам. Осуществлялся мониторинг эффективности психотерапевтического вмешательства с анализом результатов как первого, так и второго этапа.
Психологическая характеристика второго этапа исследования как модели терапевтической интервенции
Проект « Выездной летний лагерь для детей, переболевших онкологическим заболеванием и их сиблингов» реализовывался в рамках доступной и эффективной модели психологического сопровождения, называемой «терапевтический отдых».
Терапевтический отдых как модель сопровождения имеет ряд принципов организации, помогающих ребенку преодолеть вызов восприятия своих потребностей и соответствие им способностей, повреждающего влияния болезни на самооценку. Психологическая помощь, направленная на снижение тревожности, формирование чувства уверенности в себе, приобретение коммуникативных навыков, умение преодолевать трудности, дифференцировать самоощущения, позволяет преодолеть последствия болезненного статуса и построить новую иерархию мотивов деятельности (Dignan, 1989). Иллюстрация модели терапевтического отдыха представлена на рисунке.
Поскольку у ребенка ощущение собственной личности создается через опыт и обратную связь, терапевтический отдых предла- гает тщательно разработанные программы активных занятий в лагере, предоставляющие для детей и их семей возможность принять вызов и добиться успеха. Далее дети обнаруживают в себе новые ощущения, способности и понятия об окружающем мире, в котором они находят свое место. Реабилитация строится с учётом возрастных потребностей детей и особенностей пережитого травматичного опыта тяжелой болезни, что объясняет нахождение конструкта «веселье» в центре реабилитационной модели. Для ребенка наиболее комфортно и естественно получать новый опыт в процессе игровой деятельности, несущей в себе положительные эмоции. Индивидуальность каждого человека задает и индивидуальность его «комфортной зоны», внутри которой каждый ребенок может принимать «вызов по выбору», самостоятельно решать и справляться с заданием в индивидуальном темпе, что не вызывает у него какого-либо страха. Стимулирование деятельности осуществляется поэтапно в серии простых шагов. Любой, даже незначительный успех ребенка задает мотивацию его дальнейших действий, что в результате развивает у него уверенность и повышает его самооценку.
Ребенок участвует в программе путем вовлечения в деятельность на трех уровнях:
-
1) физическая интеграция (доступная каждому безопасная и неконкурентная среда);
-
2) функциональное включение (эмоционально безопасная среда, персонализиро-

Реабилитационная модель терапевтического отдыха:
Challenge by Choice – вызов по выбору; Success – успех; Reflection – размышление, Discovery – открытие; Fun – веселье
ванная поддержка и помощь в адаптации);
-
3) социальная интеграция (возможность участника программы получать общественное признание и/или участвовать в позитивном взаимодействии со сверстниками во время реабилитационных мероприятий) (Dignan, 1989; Kiernan et al., 2004).
Режим терапевтического отдыха основан на предоставлении ребенку свободы и самостоятельности на всей территории выездного лагеря с целью позволить ему обрести (впервые или заново) определенные навыки (лазать по деревьям, прыгать, стрелять в цель, грести, жарить сосиску на костре, убирать за собой в столовой и пр.) и понимание того, что у него есть собственные способности, позволяющие ему сделать осознанный выбор и в других аспектах своей жизни.
Выборки исследования
Исследование проводилось в течение двух смен выездной лагерной программы продолжительностью по 10 дней с участием двух групп детей: 1) группы детей, перенесшие онкогематологическое заболевание и 2) группы их сиблингов. Всего выборку принявших участие в проекте «Мобильная социально-психологическая служба» (первый этап исследования) составили:
-
15 семей с детьми, перенесшими онкоге-матологические заболевания со сроком ремиссии от 1 года до 5 лет;
-
15 переболевших детей в возрасте от 5 до 15 лет и 8 их сиблингов в возрасте от 8 до 14 лет.
Всего в двух группах детей было 7 подростков в возрасте 12–15 лет.
Выборку в проекте «Выездной летний лагерь для детей, переболевших онкологическим заболеванием и их сиблингов» (второй этап исследования) составили 63 ребенка в возрасте от 7 до 15 лет, из которых 37 – дети, перенесшие онкогематологические заболевания, и 27 детей – их сиблинги.
Методы и методики исследования
Исследование проводилось с помощью батареи психодиагностических методик:
-
1) проективный тест «Нарисуй историю» (Draw-a Story, R. Silver) в адаптации Л.И. Копытина (2014);
-
2) Цветовой тест отношений (ЦТО) А.М. Эткинда;
-
3) Братско-сестринский опросник
(The Brother-Sister Questionnaire; S.A. Graham-Bermann, S.E. Culter, 1994);
-
4) Семейная социограмма Э.Г. Эйде-миллера, В.В. Юстицкиса;
-
5) Опросник «взаимодействие родитель – ребенок» (ВРР) И.М. Марковской;
-
6) Шкала семейной адаптации и сплоченности FACES-3 / D.H. Olson, J. Portner, I. Lavi (1985);
-
7) Опросник супружеских отношений Алешиной;
-
8) методика исследования «образа Я» и особенностей самопрезентации «Четыре персонажа» (Лосева, Луньков, 2005).
Критерии оценки результатов исследования
На основании анализа приведенных в литературных источниках (Тарабрина, 2009; Падун, 2003; Koopman, 2002) данных о динамике показателей статуса постстрессового реагирования были сформированы следующие показатели и критерии мониторинга результатов оказания семьям с детьми, перенесшими онкологическое заболевание психологической помощи по разработанной программе:
-
1. Структура и организация семьи:
-
• тип семейной системы (функциональный, полуфункциональный, дисфункциональный);
-
• динамика иерархичных отношений в семье (семейной системе);
-
• структурирование семейных ролей и правил.
-
2. Внутрисемейные отношения:
-
• выраженность ощущения эмоциональной близости и сплоченности в отношениях между членами семьи;
-
• выраженность контролирующего поведения со стороны родителей и предоставление ребенку большей зоны самостоятельности;
-
• формирование представлений о психологических границах в отношениях между членами семьи;
-
• динамика супружеских отношений (по параметрам: общие символы в общении, доверительность и взаимопонимание в общении, легкость и психотерапевтичность общения);
-
• динамика братско-сестринских отношений (по параметрам: эмпатия, поддержание границ и принуждение).
-
3. Эмоциональное состояние и «образ Я» переболевших детей и их сиблингов:
-
• выраженность и характер тревожности
у переболевших детей и их сиблингов (в отношениях с родителями, сверстниками);
-
• выраженности и характер агрессивности (защитная, вербальная, разрушительная) у переболевших детей и их сиблингов;
-
• эмоциональное принятие или отвержение друг друга членами семьи;
-
• эмоциональное состояние членов семьи и удовлетворенность отношениями.
-
4. Потребностно-мотивационная сфера у переболевших детей и их сиблингов:
-
• выраженность фрустрированности актуальных потребностей в игре, отдыхе и развлечении, в поиске дружеских связей, в выражении агрессии, в поиске поддержки и одобрения;
-
• освоение новых конструктивных стратегий преодоления трудностей.
Особое значение имеет такая форма реабилитации, приближенная к естественным условиям жизни, социальным ролям детей, задачам возрастного развития, как терапевтический отдых.
Результаты и их обсуждение
На первом этапе исследования были выделены следующие особенности структуры и организации семьи, столкнувшейся с лечением несущего в себе угрозу жизни заболевания ребенка. По данным обследования по методике «Шкала семейной сплоченности и адаптации», для большинства (70 %) семей характерен дисфункциональный и, в меньшей степени (20 %) – полуфункциональный типы семейной системы. Для абсолютного большинства (88 %) семей характерен хаотичный тип адаптации, проявляющийся недостатком лидерства, импульсивностью в принятии решений, частым смещением ролей от одного члена семьи к другому.
Результаты проективной методики «Социограмма» свидетельствуют о нарушении иерархии (у 84 % обследованных семей), в большинстве случаев (у 58 %) – по типу инверсированной иерархии, в которой дети занимают более высокое положение, чем родители. Достаточно часто (в 59 % случаев) отмечается эмоциональная дистанцированность в отношениях. Таким образом, описанные результаты отражают наличие определенных трудностей в формировании адекватных психологических границ при взаимодействии членов семьи.
Переболевшие дети достоверно чаще (р ≤ 0,01), чем сиблинги, изображают себя в социограмме как члена семьи, обладающего наибольшим влиянием, что можно объяснить перестройкой семейной структуры и организации жизни семьи в связи с ситуацией несущего в себе угрозу жизни для ребенка заболевания. Полученные результаты косвенным образом свидетельствует о неустойчивом и нестабильном положении семьи, характерном для состояния экзистенциального кризиса.
У переболевших детей больше (р ≤ 0,01) выражено эмоционально принимаемое отношение к матери, чем к отцу, а у сиблингов в 62 % случаев выявляется эмоциональное негативное (конфликтное) отношение к матери (по данным методики ЦТО).
В супружеских отношениях (Опросник Ю.Е. Алешиной и Л.Я. Гозмана) преобладает (в 75 % семей) высокий уровень доверия в отношениях, возможность поделиться своими переживаниями и мыслями. Вместе с тем, почти у половины семей (52 %) по методике «Шкала адаптации и сплоченности» Э.Г. Эйдемиллера выявляется ощущение недостаточности общих символов в общении, что ведет к недостаточному ощущению единства и сплоченности семьи.
Для братско-сестринских отношений в таких семьях характерны высокий уровень эмпатии (в 70 % случаев), выраженность доминирования (у 60% таких пар) и ощущение нарушения своих физических или психологических границ (у 53 % опрошенных сиблингов).
Можно сказать, что две обследованные группы детей чувствительны к разным компонентам отношений. Для сиблингов на первый план выходят физические и психологические границы в отношениях, значимость уважительного отношения к себе и своим вещам, к своему личному пространству. Перенесшие заболевание дети оказались восприимчивы к проявлению доминирования и контроля в межличностных отношениях с ощущением избыточности такого отношения к ним со стороны брата или сестры.
Мониторинг особенностей потребностно-мотивационной сферы переболевших детей и их сиблингов (по проективной методике «Нарисуй историю») свидетельствует о выраженности у них потребности в выражении агрессии (в 53 % случаев), в поиске дружеских связей и общения (в 46 % случаев), поддержки, помощи и симпатии от значимого лица (в 37 % случаев).
Для половины обследованных сиблингов актуальны потребность во внимании и заботе со стороны значимого лица, а также в игре, отдыхе и развлечениях (каждая в 50 % случаев), а для каждого третьего из этой выборки – потребность в выражении агрессии.
Второй этап исследования был посвящен анализу «Образа Я» детей. Мониторинг результатов исследования по методикам «Нарисуй историю», диагностики особенностей са-мопрезентации («Четыре персонажа») и детского рисунка А.Л. Венгер (2003), выполненный по критерию оценки эмоционального состояния и «образа Я» переболевших детей и их сиблингов, свидетельствует об определенном сходстве результатов двух этапов исследования, что обосновывает возможность их обобщенного рассмотрения.
«Образ Я» детей, перенесших онкогема-тологическое заболевание, характеризуется (на физическом уровне) стремлением к активности, восприятием своей жизненной энергии как источника силы и возможностей (у 80 % обследованных),а на уровне социального взаимодействия – выраженной потребностью в общении (в 46 % случаев) и в то же время присутствием страхов и потребности обрести устойчивость (в 60% случаев), импульсивностью (56 % случаев), агрессией в поведении и общении (у 78 % респондентов). Отмечается также стремление к непривязанности к прошлому (в 84 % случаев) и потребность в самореализации (в 76 % случаев), что отражает определенную дифференцирование «образа Я» .
Эмоциональное состояние, напряженное, с выраженностью агрессивных тенденций в 62 % проанализированных рисунков демонстрирует наличие противоречивого эмоционального содержания и выраженные агрессивные тенденции (в 48 % рисунков).
Анализ полученных данных позволяет косвенным образом судить о внутренней картине болезни ребенка. Эмоциональный уровень внутренней картины болезни переболевших детей отражает амбивалентные чувства в отношениях с окружающими; мотивационный уровень – актуальные потребности в поиске общения и дружеских связей, потребность в отдыхе и развлечениях. В целом полученные данные свидетельствуют об актуализации потребности к возвращению к привычному образу жизни и о наличии состоя- ния, субъективно переживаемого как «трудное». Таким образом, эмоциональный и мотивационный уровни ВКБ таких детей могут быть психотерапевтическими мишенями.
Физический уровень «образа Я» сиблин-гов характеризуется стремлением контролировать свою жизненную энергию (у 72 % обследованных), а уровень социального взаимодействия – выраженностью агрессии (у 42 %), открытостью и расположенностью к общению (у 75 %), потребностью в заботе и внимании (у 72 %), тревожностью (у 68 %). В свою очередь, дифференцирующий «Образ Я» проявляется выраженной потребностью быть нужным (у 82 % респондентов), которая рассматривается как компенсация незамеченной значимым лицом активности и в силу этого оставшейся нереализованной.
Эмоциональное содержание в половине случаев анализируемых рисунков имеет умеренно отрицательную характеристику – изображены испуганные, страшные или тем или иным образом фрустрированные персонажи, а в 60 % рисунков сиблингов заметны признаки тревожности.
Таким образом, для сиблингов характерно напряженное эмоциональное состояние с выраженностью тревоги.
В итогам мероприятий программы психологической реабилитации семей с болеющими онкологическими заболеваниями детьми по модели терапевтического отдыха выявлено у сиблингов достоверно значимое (p ≤ 0,01) снижение потребности быть нужным, а также уменьшение проявлений тревожности.
Выводы и обобщения
-
1. Выделяются следующие терапевтические мишени:
-
А) для первого (послеоперационного) этапа реабилитации:
– в структуре и организации семьи: психологические границы в отношениях между членами семьи; иерархия и дистанция во внутрисемейных отношениях; структурирование семейных ролей и правил; лидерство и стратегии принятия решений в семье, ощущение эмоциональной близости и сплоченность в семье;
– в эмоциональном состоянии: выраженность тревоги и уровень тревожности, агрессивных тенденций, напряжения, конфликтного негативного отношения к членам семьи и
- «Образ Я» переболевшего ребенка и сиблин-гов в целом;
– в потребностно-мотивационной сфере перенесшего заболевание ребёнка и его сиб-лингов: выраженность потребности во внимании, в выражении агрессии, поиска контактов и дружеских связей, потребности в игре, отдыхе и развлечениях, стратегии преодоления трудностей;
– в братско-сестринских отношениях: выраженность эмпатии, доминирования, поддержание границ.
-
2. Анализ результатов исследования по критериям мониторинга мероприятий программы психологической реабилитации семей с болеющими онкологическими заболеваниями детьми по модели терапевтического отдыха позволил выделить следующие направления развития проекта:
– семейные программы терапевтического отдыха, направленные на гармонизацию детско-родительских и братско-сестринских отношений; гармонизацию «образа Я» переболевших детей и их сиблингов; уменьшение эмоциональной дистанции в отношениях и повышение качества совместно проводимого времени;
– расширение проекта психологической помощи по трём направлениям: территориальному (включение семей из других городов и регионов); временному (продолжение наблюдения за процессом реализации программы психологической помощи для оценки динамики отношений); по типу вмешательства (расширение мишеней терапевтического вмешательства);
-
3. Перспективы продолжения исследования:
– подбор и адаптация батареи методик для более глубокого изучения эмоционального состояния и «образа Я» детей, детско-родительских, братско-сестринских и супружеских отношений;
– включение в исследование семей без опыта преодоления болезни, несущей в себе экзистенциальную угрозу.
Б) Для второго этапа реабилитации (по модели терапевтического отдыха) были выделены следующие психотерапевтические мишени:
– в эмоциональном состоянии: выраженность тревожности, агрессивных тенденций, напряжения, конфликтного негативного отношения к членам семьи и «Образ Я» переболевшего ребенка и сиблингов;
– в потребностно-мотивационной сфере: выраженность потребности быть нужным и нравиться, потребности во внимании, в выражении агрессии, поиска контактов и дружеских связей, потребности в игре, отдыхе и развлечениях, потребность в самовыражении.
Статья выполнена при поддержке Правительства РФ (Постановление №211 от 16.03.2013 г.), соглашение № 02.A03.21.0011 и средств субсидии на выполнение базовой части государственного задания проект № 8259.2017.
Список литературы Психологическая реабилитация семей с детьми, перенесшими онкогематологические заболевания
- Венгер, А.Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное руководство/А.Л. Венгер. -М.: Изд-во Владос-пресс, 2003. -160 с.
- Гусева, М.А. Социальные проблемы семей, имеющих детей-инвалидов с онкологическими заболеваниями/М.А. Гусева, А.И. Антонов, О.Л. Лебедь, В.М. Карпова, Г.Я. Цейтлин//Высшее образование для 21 века: 6-я междунар. науч. конф. -М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2009. -С. 34-39.
- Карпова, Э.Б. Онкологическое заболевание как психологический кризис/Э.Б. Карпова, В.А. Чулкова//Ананьевские чтения, матер. научно-практ. конф. СПб ун-та. -2007. -М.: Наука, 2007. -С. 556-557.
- Климова, С.В. Основные направления психологической помощи семьям с детьми, страдающими онкологическими заболеваниями, в условиях стационара/С.В. Климова, Л.Л. Микаэлян, Е.Н. Фарих, Е.В. Фисун//Журнал практической психологии и психоанализа. -2009. -№ 1. -С. 56-62.
- Копытин, Л.И. Арт-терапия детей и подростков/Л.И. Копытин, Е.Е. Свитовская. -2-е стер. изд. -М.: Изд-во Когито-Центр, 2014. -197 с.
- Лосева, В.К. Рассмотрим проблему: Диагностика переживаний детей и взрослых по их речи и рисункам/В.К. Лосева, А.И. Луньков. -М.: А.П.О., 2005. -48 с.
- Мирошкин, Р.Б. Психологическая реабилитация семьи с детьми, перенесшими онкологическое заболевание/Р.Б. Мирошкин, Е.В. Фисун, Н.Е. Филиппова//Журнал практическое психологии и психоанализа. -2010. -№ 3. -С. 32-36.
- Мирошкин, Р.Б. Комплексный подход к реабилитации семей с детьми, имеющими онкозаболевание, в санатории «Русское поле»: тезисы/Р.Б. Мирошкин, А.В. Скрипкин, Ю.Н. Федоров, Е.В. Фисун//Материалы международного конгресса «Реабилитация и санаторно-курортное лечение 2012». -М.: Наука, 2012. -С. 68-69.
- Падун, М.А. Особенности базисных убеждений у лиц, переживших травматический стресс: дис.… канд. психол. наук/М.А. Падун. -М., 2003. -159 с.
- Рейнальдо, П.Л. Психотерапевтическое лечение фобических состояний и посттравматического стресса/П.Л. Рейнальдо. -М.: Изд-во Маренго Интернейшнл принт, 2001. -165 с.
- Тарабрина, Н.В. Психология посттравматического стресса/Н.В. Тарабрина. -М.: Институт психологии РАН, 2009. -332 с.
- Dignan, M. Helping students respond to stressful interactions with cancer patients and their families: a pilot program/M. Dignan, R. McQuellon, R. Michielutte et al.//J Cancer Educ. -1989. -№ 4(3). -P. 179-183. DOI 10.1080/08858198909528000.
- Graham-Bermann, S.A. The Brother-Sister Questionnaire: Psychometric Assessment and Discrimination of Well-Functioning From Dysfunctional Relationships/S.A. Graham-Bermann, S.E. Cutler//Journal of Family Psychology. -1994. -Vol. 8, No. 2. -P. 224-238.
- Green, J.G. Childhood adversities and adult psychopathology in the National Comorbidity Survey Replication (NCS-R) I: Associations with first onset of DSM-IV disorders/J.G. Green, K.A. McLaughlin, P. Berglund et al.//Archives of General Psychiatry. -2010. -62. -P. 113-123.
- Gurevich, М. Stress response syndromes in women undergoing mammography: a comparison of women with and without a history of breast cancer/M. Gurevich, G.M. Devins, C. Wilson et al.//Psychosom Med. -2004. -Jan-Feb; 66(1). -P. 104-112. PMID: 14747644
- Kangas, M. Posttraumatic stress disorder following cancer. A conceptual and empirical review/M. Kangas, J.L. Henry, R.A. Bryant//Clin Psychol Rev. -2002. -22. -P. 499-524.
- Koopman, Ch. Traumatic stress symptoms among women with recently diagnosed primary breast cancer/Ch. Koopman, L.D. Butler, C. Classen, J. GieseDavis//Journal of traumatic stress. -2002. -V. 15, № 4. -P. 277-287.
- Kiernan, G. Outcomes associated with participation in a therapeutic recreation camping program for children from 15 European countries: Data from the «Barretstown Studies»/G. Kiernan, M. Gormley, M. MacLachlan//Social Science & Medicine. -2004. -V. 59, № 5. -P. 903-913.
- Olson, D.H. FACES III (Family Adaptation and Cohesion Scales)/D.H. Olson. -St. Paul, MN: University of Minnesota, 1985.
- Pitman, R.K. Psychophysiologic assessment of posttraumatic stress disorder in breast cancer patients/R.K. Pitman, M.К. Lanes, S.K. Williston//Psychosomatics. -200l. -№ 42. -P. 133-140.