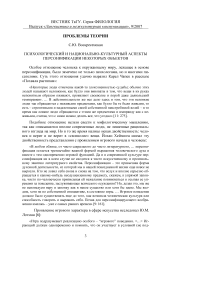Психологический и национально-культурный аспекты персонификации некоторых объектов
Автор: Воскресенская Светлана Юрьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы теории
Статья в выпуске: 9, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120478
IDR: 146120478
Текст статьи Психологический и национально-культурный аспекты персонификации некоторых объектов
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТЫ ПЕРСОНИФИКАЦИИ НЕКОТОРЫХ ОБЪЕКТОВ
Особое отношение человека к окружающему миру, лежащее в основе персонификации, было замечено не только психологами, но и многими писателями. Суть этого отношения удачно выразил Карел Чапек в рассказе «Похвала растяпам»:
«Некоторые люди отмечены какой-то злокозненностью судьбы; обычно этих людей называют неловкими, как будто они виноваты в том, что вещи в их руках непонятным образом оживают, проявляют своеволие и порой даже дьявольский темперамент. … В действительности же все дело здесь в том, что эти неловкие люди так обращаются с неживыми предметами, как будто бы те были живыми, то есть – строптивыми и наделенными своей собственной неистребимой волей – в то время как ловкие люди обращаются с этими же предметами и взаправду как с неживыми, считая, что с ними можно делать все, что угодно» [11: 275].
Подобное отношение нельзя свести к мифологическому мышлению, так как описываются вполне современные люди, не лишенные рационального взгляда на мир. Но в то же время налицо некая двойственность: человек и верит и не верит в «своеволие» вещи. Йохан Хейзинга связал эту двойственность представления с проявлением игрового начала в человеке:
«В любом облике, от чисто сакрального до чисто литературного, … персонификация остается чрезвычайно важной формой выражения человеческого духа и вместе с тем одновременно игровой функцией. Да и в современной культуре персонификация ни в коем случае не сводится к чисто искусственному и произвольному занятию литературного свойства. Персонификация – это привычная форма духовной деятельности, из которой мы в нашей повседневной жизни еще вовсе не выросли. Кто не ловил себя снова и снова на том, что вслух и вполне серьезно обращается к какому-нибудь неодушевленному предмету, скажем, к упрямой запонке, чисто по-человечески приписывая ей нежелание повиноваться и осыпая ее упреками за поведение, заслуживающее всяческого осуждения? Но, делая это, мы же не исповедуем веру в запонку как в некое существо или хотя бы идею. Мы входим, хотя не по собственной инициативе, в состояние игры. … Игровое поведение должно было существовать еще до того, как возникла человеческая культура или способность говорить и выражать себя. Почва для персонифицирующего воображения имелась – уже с самых ранних времен» [9: 161].
Проявление игрового характера в сфере искусства исследовал Ю.М. Лотман [6]:
«Игра подразумевает реализацию особого – “игрового” поведения. <…> Играющий должен одновременно и помнить, что он участвует в условной (не под-
ВЕСТНИК ТвГУ. Серия ФИЛОЛОГИЯ
___Выпуск « Лингвистика и межкультурная коммуникация », 9/2007___ линной) ситуации (ребенок помнит, что перед ним игрушечный тигр, и не боится), и не помнить этого (ребенок в игре считает игрушечного тигра живым). Живого тигра ребенок – только боится; чучела тигра ребенок – только не боится; полосатого халата, накинутого на стул и изображающего в игре тигра, – он побаивается, то есть боится и не боится одновременно» [6: 82].
Вероятно, что в случае с «непослушной» запонкой имеет место та же двойственность отношений: с одной стороны, рационально мыслящий человек понимает, что запонка – неживая вещь, с другой стороны, для собственного самолюбия выгоднее ругать неодушевленный предмет, таким образом, наделяя его чертами одушевленного, чем признавать свою несостоятельность в управлении этим предметом. Персонификация в этом случае носит характер психологической игры. Анализу некоторых предпосылок персонификации посвящена статья немецкого философа Хельмута Веглера с говорящим подзаголовком: «О заблуждениях восприятия, злых столах, добрых духах и других странных вещах» (перевод наш) [19]. В частности, исследователь указывает на предшествующее персонификации восприятие мира в определенных эмоциональных состояниях:
«Мне еще свежо в воспоминании, когда в состоянии влюбленности мне месяцами казалось, что весь город радостно смеется – все дома, улицы, деревья и т.д. Я вспоминаю две строчки из Гёте: “Es lächelt der See, er ladet zum Bade…”, и “... wie lacht die Flur...”. Это больше, чем метафора, это восприятие » [19].
Интересные примеры взаимодействия «эмоционально-оценочного отношения с избирательностью восприятия человеком окружающего мира» [4: 98] приводят А.А. Залевская [4] и В.Д. Девкин [3: 51–52].
Подобное восприятие окружающего мира является «когнитивной иллюзией», но коренится в самой психике человека:
«От сильных эмоциональных валентностей объекта иногда недалеко до персонификации. Злой, равнодушный, мрачный мир, который мы познаем (или думаем, что познаем) через враждебные, неприятные события, является такой же когнитивной иллюзией, как злой стол для ребенка. На уровне восприятия мы не можем устранить эту иллюзию, но мы можем нейтрализовать её с помощью рефлексии. Если когнитивная иллюзия остается незамеченной и непонятой, возникает суеверие. … Если мы свободно играем с ней, в некотором роде мысля её в кавычках, может возникнуть поэзия. Философу же надлежит разгадать и назвать иллюзию по имени» [19].
Необходимо сказать, что не всегда персонификация воспринимается как осознанная игра, какой ее рассматривает Й. Хейзинга; часто, когда речь идет о понятиях опасных или неподвластных человеку (рок, болезнь, смерть), отношение к ним бывает самое серьезное. Например, про вулканы говорят, что они «живут», «дремлют», «спят», «просыпаются», и не всегда можно определить, являются ли эти выражения лишь языковыми метафорами. Еще одним ярким примером одушевления природных объектов могут служить выдержки из статьи «Gute Elbe, böse Elbe» [16], посвященной исследованию изменения отношения немецкого населения к рекам после наводнения в Германии в 2002 г. (персонификации выделены подчеркиванием):
-
1) « Gute Elbe, böse Elbe. Sie schimpfen auf sie, und sie fürchte n sie. … Aus Elbe, Mulde und Weißeritz sind böse Nachbarinnen geworden. Aufbrausende Wesen , die aus schierer Willkür Existenzen vernichtet und Leben zerstört haben. … Bekannte, die über Glück und Unglück entscheiden »;
-
2) «“Ich habe die Elbe wachsen sehen und habe gesehen, wie der Fluss tobte , wie böse er war”, formuliert die Radebeulerin Gertraude Weber mit Schaudern. “So richtig leiden kann ich sie nicht mehr.”»
В упомянутой статье приводятся мнения психологов и лингвистов, обсуждающих явление массовых персонификаций рек: персонификации помогают справиться со страхом перед природными явлениями, так как человек склонен больше бояться безымянного и безличного, а персонификация позволяет «объяснить» поведение реки (например, река разлилась, потому что она злая) и, таким образом, создать иллюзию контроля за стихией (Gernot von Collani, психолог); персонификация, представляющая реку в образе противника, – присущая психике человека творческая форма осмысления реальности (Dietrich Hartmann, германист); собственное имя делает предметы и явления психологически ближе людям, имя порождает характер и индивидуализацию природного явления, а от индивидуализации до персонификации – один шаг, тем более что человеку свойственно олицетворять все, что движется, будь то вода или животное (Elmar Neuss, языковед); кроме того, существует давняя литературная традиция олицетворения рек («Vater Rhein», многочисленные духи воды, рек, источников).
Интересные данные ассоциативного эксперимента предоставляет П.Н. Яшин [13], исследующий образы жизни и смерти в языковом сознании носителей русской культуры: среди реакций на слово-стимул СМЕРТЬ автор среди прочего получил и такие, как «с косой», «старуха» – т.е. персонификацию, которая уже стала распространенным культурным символом. Заслуживает внимания тот факт, что на слово-стимул ЖИЗНЬ не было реакций в виде персонификации. Предположим, что понятие жизнь не требует воплощения в одушевленный или очеловеченный образ, потому что, при всей важности этого понятия, жизнь – это нечто естественное, воспринимаемое как само собой разумеющееся, незаметное, как воздух. К смерти же отношение совсем другое, связанное в основном со страхом, страданием, с сильными негативными эмоциями. Такое отношение требует особого осмысления, в данном случае, в форме персонификации.
Очень интересное наблюдение относительно персонификации делает А.М. Пешковский, рассматривая свойство языка «опредмечивать все непредметное»: лингвист приводит гипотезу возникновения отвлеченных существительных в период мифологического мышления от имен духов, которых человек видел в явлениях природы.
«В подтверждении такой гипотезы ученые эти ссылаются на то, что в настоящее время степень отвлеченности у разных таких слов различна, а степень отвлеченности одного и того же такого слова различна у людей образованных и необразованных. Сравнивают, например, представление, связанное со словом болезнь , у образованного человека и у необразованного. Необразованный человек часто верит, что болезнь можно “вогнать” и “выгнать”, что она может выйти из тела прыщами, а может упорно оставаться в теле, не повиноваться знахарю. Лихие люди могут “напустить” болезнь на целый народ. Для отдельных болезней существуют особые заклинания, в которых каждая болезнь представлена особым человекоподобным существом. … Да и для образованных людей далеко не все такие слова одинаково отвлеченны. … Вдумаемся также в буквальный (т.е. более древний) смысл таких выражений, как закрывай дверь – тепло уходит , его лихорадка трясет , совесть заела , дело мастера боится и т.д., и мы допустим, что все эти предметы могли обозначать когда-то в народном сознании настоящие предметы, только невидимые» [8: 95–96].
А.М. Пешковский оговаривает, что «гипотеза эта должна быть проверена историко-культурным исследованием о временном соотношении эпохи анимизма с эпохой первого зарождения языка» [8: 96], но для нашего исследования более важно его замечание о разных отношениях к болезни людей с разным уровнем критического сознания.
Особое отношение наблюдается и к драгоценным камням, причем истории о «роковых» камнях и украшениях встречаются не только в романах, но и в некоторых энциклопедиях. Интересно, что несколько мистический тон этих историй иногда сопровождается описанием таких фактов, которые вовсе не свидетельствуют о действии рока:
«… придворный ювелир Пито огранил камень в виде треугольной пирамиды …. Скорее всего эта форма послужила причиной дальнейших несчастий, так как, по мнению некоторых экстрасенсов, трехгранная алмазная пирамида генерирует опасную для человека энергию. В 1715 г. Людовик XIV украсил бриллиантом свое жабо. Через семь месяцев он скончался. Людовик XV долго не использовал камень, но потом повелел вставить его в крест ордена Золотого руна, который носил. Не прошло и пяти лет, как он умер от оспы» [5: 15].
Уже на этом этапе наблюдается некоторая нелогичность повествования: фраза «не прошло и» обычно требует названия небольшого промежутка времени (несколько дней, месяцев, максимум один год), поэтому несколько странно видеть роковое влияние камня в смерти от оспы, последовавшей через пять лет после довольно неопределенно описанного события. Далее как ни в чем не бывало сообщается, что впоследствии этим камнем владело семейство одного банкира – более 70 лет. Но этот факт не умеряет мистического настроя повествователя. Другая история начинается не менее патетически: «Камни могут наказать и за небрежное отношение к себе» [5: 16], но содержание ничем не оправдывает употребления персонификации: рассказывается, как один правитель жестоко наказал подданного за утайку камня. Примечательно, что камням приписывается характер и способность влиять на судьбу человека: «вероятно, рубин “обиделся” на такое варварское отношение, и обстоятельства сложились так, что вторая его половина попала к тому же правителю» [5: 16]. Неудивительно, что многие люди верят в мистические свойства камней и могут вполне серьезно воспринимать подобные персонификации.
Исходя из сказанного выше, целесообразно разделить понятия персонификации в зависимости от отношения к персонифицируемому объекту.
-
1. Персонификация в сфере религиозного верования и в сфере анимистического мировоззрения – персонифицируемый объект мыслится как реально живой / понимающий / способный контактировать. Примером может служить поклонение священным деревьям в древности, а также многочисленные культы животных.
-
2. Персонификация в сфере мистического мировоззрения – персонифицируемый объект наделяется мистической силой, мыслится как реально живой / понимающий / способный контактировать / могущий быть опасным или, наоборот, помогающий человеку (вера в мистические свойства камней, амулетов, украшений). Предметы при этом часто наделяются собственными именами и даже характером.
-
3. Персонификация в бытовой / профессиональной сфере: двойственное отношение к объекту – при полном осознании вещи как «неживой» имеет место отношение к ней как к «живой», персонификация проявляется как психологическая игра. Пример: «А теперь я завел себе шведский пылесос. Правда, может быть, следовало бы сказать, что шведский пылесос завел себе меня» [11: 229]. Особо стоит подчеркнуть отношение к вещам, которые легко ломаются, сложны в управлении, или являются предметом особой гордости владельца:
-
4. Персонификация в повседневной речи: здесь речь идет о «стертых» персонификациях: «стул сломал ся », «ну надо же такому случиться!», «der
-
5. Персонификация в художественном тексте: в этом случае имеет место модус фиктивности, отключающий критическое восприятие текста:
«Сидя за письменным столом, я кошусь на свою печку, которая, увы, никак не хочет бросить на меня свой огненный взгляд. Я уже не зову мастера: я хочу, чтобы она привыкла ко мне, а не к чужому человеку» [11: 226].
Часто такой персонификации подвергаются автомобили:
«Славная машина слегка откашлялась и, распространяя вокруг какое-то зловоние, осталась спокойно стоять на месте. Человек в шлеме что-то пробурчал себе под нос и стал грубо вертеть упомянутую ручку. Автомобиль оказался действительно славный: продолжал стоять смирно» [11: 235].
Можно также вспомнить знаменитый эпизод из фильма «Кавказская пленница», когда грузовик заводится лишь после того, как герой произносит гневную тираду в его адрес. Можно упомянуть и автомобиль по имени Карл из романа Е.М. Ремарка «Три товарища». Замечательное изречение существует и по поводу компьютеров: «Не надо очеловечивать компьютеры, они этого не любят».
Zufall wollte es» – они осознаются лишь как речевые обороты, но, тем не менее, в них присутствует определенный оттенок одушевления объекта в результате некоторого «самоустранения» говорящего.
«… олицетворение как явление стиля выступает в тех случаях, когда оно применяется как иносказание, т.е. как такое изображение предмета, которое стилистически преобразует его. … В таких произведениях, как басни, притчи, и в разных видах аллегории, следует говорить об олицетворении, как о художественном приеме. … Изображение растений и животных по образу людей, как это встречается, в сказках, баснях, животном эпосе, также может рассматриваться как вид олицетворения» [7].
Основным источником персонификаций для исследователя-лингвиста служит художественный текст, причем поэзия имеет преимущество перед прозой в силу высокой концентрации тропов (в частности, персонификаций) в текстах сравнительно небольшого объема. Кроме того, лирика представляет собой особенный материал для исследования. М.Н. Эпштейн высказывает мнение, что при всей индивидуальности авторских текстов, можно говорить о целостности «на более высоком и труднообозримом уровне всей национальной поэзии как единого произведения – мегатекста . Такой мегатекст не есть условная конструкция, он реально существует, у него есть свой читатель – народ, в памяти которого хранится вся совокупность текстов, составляющих национальную поэзию» [12: 4]. Несмотря на различия в стиле каждого поэта, « на уровне мегатекста становятся заметными все те сходства и взаимозависимости , которые не осознаются автором, сочиняющим свой единичный текст, но принадлежат сознанию целого народа » [12: 4]. В принципе, любое новаторство, любая творческая находка поэта, заслужившего народное признание, добавляются в национальную мозаику культуры и литературы. Но и при всей индивидуальности мировоззрения автора, в национальной культуре существует ряд образов традиционно значимых объектов, от которых поэт отталкивается в своем творчестве, наполняя их своими личностными смыслами: «Мы не находим здесь того тождества индивидуальных воззрений, которые составляют предпосылку мифологии, но между разрозненными мотивами сохраняются линии притяжения, вокруг которых группируется наибольшее количество образов» [12: 5]. Анализ этих образов может дать представление о национально-культурной специфике народа.
Особого рассмотрения заслуживают случаи персонификации предметов и явлений, при которых актуализируется образ животного. Обычно этот вид персонификации редко рассматривается исследователями, но приписывание неодушевленным предметам черт животных может быть охарактеризовано как особый этап одухотворения мира. Изучение таких персонификаций позволяет выявить отношение человек – животные, важ- ное для любой культуры. Нами были рассмотрены 56 случаев изображения неодушевленных предметов и абстрактных понятий в образе животных. В числе этих примеров (взятых из лирики ряда русских и немецких поэтов, см. источники [1], [2], [10], [14], [15], [17], [18]) большую часть занимают образы живых существ в целом (Лижет берег гладкий / Как будто теплая волна. А.А. Ахматова), но в некоторых примерах просматриваются и образы конкретных животных (Мой письменный вьючный мул! / Спасибо, что ног не гнул / Под ношей, поклажу грез – / Спасибо, – что нес и нес. М. Цветаева). Собранные примеры мы распределили по категориям, представленным в таблице.
Таблица
|
Образы животных при персонификации |
Кол–во примеров на русском языке |
Кол–во примеров на немецком языке |
|
Образы живых существ |
16 |
12 |
|
Образ коня, лошади |
4 |
3 |
|
Образ птицы |
9 |
7 |
|
Образы других животных |
3 |
2 |
Животные, по словам М.Н. Эпштейна – это «самая наглядная для человека форма инобытия духа, которую он может оценивать как сверхчеловеческую или недочеловеческую, но которая так или иначе определяет его место в иерархии мироздания» [12: 88]. Образы животных, наложенные на неживые предметы, могут создавать особое эмоциональное настроение текста, например:
-
(А) радостное, жизнеутверждающее настроение:
Где на четырех высоких лапах
Колокольни звонкие бока
Поднялись (А.А. Ахматова).
(Б) чувство безотчетного страха:
Alle die wunden Fenster furchtsam mit Flügeln schlagen (Р.М. Рильке).
-
(В) непокорность, жизненную силу природы:
Die Bäche, die wilden,
Stürzen, reißende Tiere heran (Й. Бехер).
Эмоциональность образов животных объясняется тем, что «в животных обнажается ранимое, сокровенное нутро жизни, которое и человек напряженно оберегает в себе под защитными слоями культуры» [12: 123]. Неудивительно, что образы зверей и птиц часто используются при выражении очень сильных и часто негативных эмоций. При этом «оживленные»
ВЕСТНИК ТвГУ. Серия ФИЛОЛОГИЯ
___Выпуск « Лингвистика и межкультурная коммуникация », 9/2007___ таким образом объекты могут выступать как в роли субъектов, причиняющих страдание лирическому герою, так и в роли его жертв:
И память хищная передо мной колышет
Прозрачный профиль твой (А.А. Ахматова).
Дурную память загонять в конец (М. Цветаева).
Неужели же ты не измучен
Смутной песней затравленных струн (А.А. Ахматова).
Определенные денотаты часто связываются с образами конкретных животных. Особого внимания заслуживают образы коня и птицы. Например, морские волны часто персонифицируются в облике коней. Эта традиция, проявляющаяся не только в литературе, но и в изобразительном искусстве, восходит к древнегреческой мифологии, в которой конь был животным Посейдона, и морские кони возили его колесницу. Возможно, поэтому в белых струях воды так легко разглядеть гривы скакунов (ср. водопад белогривый у А.А. Ахматовой). В русской лирике «конь – воплощение стремительных, необузданных сил природы, но в их полной покорности человеку» [12: 93]. Примечательно, что этот смысл (стихия покорная человеку) проявляется через символ конь – стихия . Но перестановка компонентов этой пары (персонификация стихии в образе коня) часто приводит к актуализации другого смысла: неподвластной человеку природы. Так, в немецкой поэзии персонифицированная стихия враждебна человеку. Генрих Гейне описывает волны как коней, яростно встающих на дыбы и брызжущих пеной:
Es wütet der Sturm,
Und er peitscht die Wellen,
Und die Wellen, wutschäumend und bäumend, Türmen sich auf (Г. Гейне).
О. Эрнст изображает волны как коней, пожирающих людей, воплощающих в себе мощь и жестокость моря:
Mit feurigen Geißeln peitscht das Meer
Die menschenfressenden Rosse daher;
Sie schnauben und schäumen (О. Эрнст).
Все же необходимо отметить, что приведенные выше примеры относятся к персонификациям бушующего моря. Волны в штиль могут выступать в гораздо более мирном образе белых ягнят (ср. в русском языке барашки волн ):
Und die rauschende Flutgewalt
Drängt ans Ufer die weißen Wellen,
Die lustig und hastig hüpfen,
Wie wollige Lämmerherden (Г. Гейне).
Образ лошади или коня может получать и корабль, и в этом случае он дружественен и покорен человеку. Образ одомашненного животного при этом противопоставляется «дикой» стихии. Более того, такая персонификация выражает борьбу живого с живым, живого корабля с живым морем, в некотором роде снимая противопоставление человека и стихии – не слабый человек выступает против неумолимой бури, а боевой конь-корабль:
Unterdessen kämpft das Schiff
Mit der wilden, wogenden Flut;
Wie'n bäumendes Schlachtroß, stellt es sich jetzt
Auf das Hinterteil, daß das Steuer kracht (Г. Гейне).
Образ коня традиционно связывается и с ветром (стоит лишь вспомнить сказки разных народов о волшебных конях, умеющих летать):
Голосу дай мне воспеть тебя, о праматерь
Песен, в чьей длани узда четырех ветров (М. Цветаева).
Образ птицы встречается у разных поэтов и сообщается разным денотатам: Вылетит птица – моя тоска / Сядет на ветку, станет петь (А.А. Ахматова), Die Glocken, die sich in die Türme krallen, / hängen wie Vögel (Р. Рильке), но у ряда авторов встречается персонификация стихов, песен, поэзии в образе птиц: Traumhaft erklang der Strophe Flügelschlag (Й. Бехер), или И стихов моих белая стая (А.А. Ахматова), или:
Aus meinen großen Schmerzen
Mach ich die kleinen Lieder;
Die heben ihr klingend Gefieder
Und flattern nach ihrem Herzen (Г. Гейне).
Образ птицы может иметь разную символическую нагрузку: птица как символ творческой свободы, птица в клетке – символ несвободы, тоски; птица счастья – персонификация неуловимой и труднодостижимой мечты. У К. Бальмонта птица является персонификацией любви, причем применение этого тропа позволяет раскрыть целую палитру смыслов, вкладываемых поэтом в понятие любовь : красота и недостижимость, свобода и «прирученность», и тайна, раскрывающаяся немногим.
То, что люди называли по наивности любовью,
То, чего они искали, мир не раз окрасив кровью, Эту чудную Жар-птицу я в руках своих держу, Как поймать ее – я знаю, но другим не расскажу (К. Бальмонт).
Приведенные примеры призваны показать многообразие эмоциональных и национально-культурных смыслов, которые могут актуализироваться при персонификации различных объектов. В рамках настоящей статьи на сравнительно небольшом количестве примеров были рассмотрены лишь несколько наиболее ярких образов животных, сообщаемых различным не- одушевленным объектам, и несомненно, что специфика персонифицирования объектов нуждается в дальнейшем углубленном изучении.