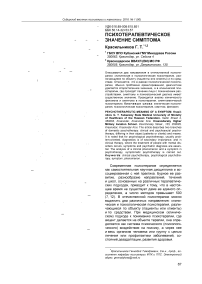Психотерапевтическое значение симптома
Автор: Красильников Г.Т.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Психотерапия и медицинская психология
Статья в выпуске: 1 (90), 2016 года.
Бесплатный доступ
Описываются два направления в отечественной психотерапии: клиническая и психологическая психотерапии, различающиеся по объекту (пациенты или клиенты) и по средствам. Отмечается, что в рамках психологической психотерапии, обычно проблемно ориентированной, диагностике уделяется второстепенное значение, а в клинической психотерапии, где проходят лечение лица с психическими расстройствами, симптомы и психиатрический диагноз имеют существенное значение. Проводится анализ клинического феномена и симптома в психотерапии, симптоматической психотерапии.
Клиническая психотерапия, психологическая психотерапия, симптом, феномен
Короткий адрес: https://sciup.org/14295884
IDR: 14295884 | УДК: 616.89-008:615.851
Текст научной статьи Психотерапевтическое значение симптома
Если акцентируется психологический аспект, то обращается преимущественное внимание на средства – на лечение психологическими средствами воздействия [7]. Этим двум подходам соответствуют и два ведущие направления в отечественной психотерапии: клиническая и психологически ориентированная психотерапии, которые принципиально различаются по отношению к диагностике. При неразличении этих направлений появляется чрезмерная экспансия неклинической психологической психотерапии в клиническую область с отрицанием значимости диагноза для процесса терапии.
Высказываются мнения, что диагноз не полезен, снижает эффективность лечения, не учитывает сложность человека, увеличивает дистанцию между терапевтом и пациентом [12], что надо «смотреть за симптом» и уметь видеть в нем символ психологических проблем [14]. Это положение можно расценивать как проявление нормоцентризма, когда мышление психотерапевта ориентировано на нормативность оценки даже патологических феноменов. При таком подходе даже самые отклоняющиеся формы поведения и симптомы психических расстройств подвергаются психологическому объяснению как следствие особенностей ситуации, сложившихся отношений, воспитания и т. п.
Для сохранения профессионального подхода психотерапевту важно осознавать границы «понимания» переживаний пациента, за которыми возможно лишь каузальное психопатологическое объяснение наблюдаемых феноменов и их взаимосвязей. А без этого возникает, по описанию В. Ю. Завьялова, парадокс психотерапии, когда идет «лечение без лечения больного без болезни» [6].
Но к психотерапевтам, как известно, обращаются как больные люди с психическими расстройствами, так и психически здоровые люди с различными психологическими проблемами: трудностями общения, неустойчивой самооценкой, внутренним конфликтом автономии и зависимости, трудностями выбора в определенной ситуации и др. И в соответствии с этим психотерапию принято подразделять на клиническую (терапию психически больных людей) и психологическую (психотерапию здоровых лиц), по М. Е Бурно [2]. Поэтому, вполне естественно, что в неклинической (психологической) психотерапии симптом (как феномен, отражающий переживание проблемной ситуации) не имеет сам по себе существенного значения, ибо главное в том, что скрывается за ним. Но кто проводит эту дифференцировку для пациентов, чтобы определить, к какому психотерапевту обращаться?
В свое время З. Фрейд предлагал в целях отбора пациентов для психоанализа применять тест Роршаха, чтобы исключить случаи латентной шизофрении, при которых психоанализ, по его мнению, был неэффективен и даже мог вызывать обострение психоза [1]. Если подобная предварительная диагностика не проводится, то в психотерапевтической практике случается, что больной шизофренией с заявленной алкогольной проблемой проходит у игнорирующего диагностику психотерапевта «кодирование» или «6-шаговый рефреминг». В клинической психотерапии симптом заслуживает сам по себе всестороннего рассмотрения, ибо он и является обычно поводом для обращения пациента. Симптомы могут проявляться в физической, эмоциональной, когнитивной, поведенческой и перцептивной сферах жизнедеятельности человека.
Симптом психического нарушения не предстает в непосредственном восприятии психотерапевта в качестве выявленного у пациента феномена. Симптом как понятие образуется в результате логической обработки феномена, индуктивных умозаключений врача-специалиста. И в этом состоит основное отличие симптома, идентифицируемого врачом, от феномена-переживания пациента, что более подробно на примере психиатрической клиники обосновывается в другой работе [10].
В возникновении и поддержании симптома просматривается многофакторность в соответствии с современной медицинской парадигмой, рассматривающей биопсихосоциальное единство человека в норме и патологии. С этих позиций, не бывает психических расстройств без нарушений физиологических функций мозга. Даже при чисто психогенном возникновении симптома между ситуацией и симптомом возникает масса опосредований и дополнительных условий, усложняющих клиническую симптоматику и затрудняющих ее психологическое понимание. Поэтому в практике клинического психотерапевта нередки пациенты с двойным или даже тройным психиатрическим диагнозом: со-матоформное расстройство + депрессивный эпизод или гэмблинг + личное расстройство + наркотизация и др. Кроме того, соотношение самого симптома, личностного реагирования на него пациента и социальной микросреды со временем изменяется, проделывая известную динамику: невротическая реакция → невротическое состояние → невротическое развитие [3]. На этапе невротического развития (что часто наступает через 5 лет после возникновения симптома) происходит адаптация личности к симптому, формируется вторичная и третичная личностная защита, симптом становится привычной формой реагирования, и это требует иного терапевтического подхода, чем на этапе невротической реакции.
Если психопатологический симптом аффективно насыщен, причиняет выраженное страдание и сосредотачивает на себе все внимание пациента, то это может существенно затруднить психотерапевтический контакт. Так, алги-ческий компонент депрессии, который немецкий поэт Г. Гейне называл «зубная боль на сердце» (по самонаблюдению) или тревога с двигательной и когнитивной суетливостью делают пациента малодоступным для психологической коррекции. В таких случаях применение психофармакологических средств смягчает дезорганизующее влияние аффекта и создает условия для установления психотерапевтического контакта. Здесь уместно, в порядке аналогии, привести следующее сравнение: анестезия при хирургическом вмешательстве сама по себе не оказывает лечебного воздействия, но создает условия для хирургической коррекции, хотя в некоторых ситуациях может даже являться и существенным терапевтическим средством.
Поиски и находки психологического содержания симптома, осознание психотравмы и «высвобождение энергии» при инсайте далеко не всегда обусловливают в клинической психотерапии путь к эффективному лечению. Порою определяющим становится квалифицированная клиническая идентификация именно самого симптома. В общей медицине существует положение – кто хорошо диагностирует, тот хорошо и лечит. В клинической практике могут встречаться случаи, когда хирург безуспешно лечит пациента с аэрофагией, терапевт – с гипервентиляционным расстройством, а психотерапевт – с нераспознанным неврологическим заболеванием. У каждого клинического психотерапевта найдутся, наверное, примеры, когда при правильной квалификации симптома менялась терапевтическая программа, что способствовало быстрому наступлению улучшения в состоянии пациента.
Например, у 43-летнего родственника VIP-чиновника при консультации был установлен «синдром Жиля де ля Туретта», развившийся три года назад. Пациенту были предложены легкие дозы галоперидола, занятия саморегуляцией и рациональная психотерапия. Это вызвало недоумение в окружении пациента, так как он в течение ряда лет лечился у психотерапевтов с истерическими (конверсионными) расстройствами дыхания. Тики и вокализации, свойственные синдрому Туретта [15], сопровождались эмоциональным реагированием пациента, что давало основание лечившим его психотерапевтам для квалификации их как конверсионных и обусловленных сложной семейной ситуацией. Значительное улучшение через три недели после изменения лечения, пожалуй, подтверждало иную трактовку природы расстройства.
Хотя начало в данном случае было в 40летнем возрасте пациента, что не характерно для данного заболевания (типично в детстве или у подростков), но в литературе удалось найти случай с подобным поздним дебютом.
Мак-Вильямс Нэнси в базовом руководстве по психоаналитической терапии так метафорически высказывается в пользу диагностики: «Любой человек, знакомый с компьютером, знает: если ерунда на входе, ерунда и на выходе». Она выделяет «пять взаимосвязанных достоинств диагностики» для психотерапии: использование диагноза для планирования лечения; заключенная в нем информация о прогнозе; защита интересов пациентов; то, что диагноз может помочь терапевту в эмпатии своему пациенту; диагноз может снизить вероятность того, что некоторые боязливые пациенты уклонятся от лечения [13].
Диагноз тогда становится необходимым элементом, когда диагностический и терапевтический процессы во все время психотерапевтической работы с пациентом идут параллельно и непрерывно, меняются только их акценты на разных этапах терапии. Симптом, как основа клинической диагностики, с одной стороны – абстракт, «ярлык», но с другой, он имеет индивидуальные, неповторимые черты, характерные только для данного пациента [5]. Совместные с пациентом поиски этих клинических характеристик в атмосфере коммуникативной паритетности можно проводить без врачебного патернализма и психологической отстраненности. Для более глубокого и полного понимания больного врачу следует искать в себе некоторый психологический резонанс переживаниям пациента, для чего опираться на «зачатки» невроза или даже психоза в своем внутреннем мире [8]. Но очевидность психологического понимания основывается на вчувствовании только в такое количество проявлений душевной жизни, насколько мы способны актуализировать у себя в виде возможного. В то же время для сохранения профессиональной позиции необходимо проводить феноменологическую рефлексию, сохранять долю незаинтересованной установки наблюдателя [8]. При этом терапевт обязан сохранять некоторую отстраненность как в отношении реакций пациента, так и собственных эмоциональных реакций, иначе утрачивается профессиональное отношение и сужаются терапевтические возможности. В психоанализе это определяется как эмоционально нейтральная позиция аналитика [11], а в нейролингвистическом программировании – как третья позиция восприятия [4]. Даже с больными шизофренией, при условии тщательно наработанного доверия, на определенном этапе терапии можно обсуждать их диагноз и симптомы, и необходимость такого лечения, которое
«большую шизофрению» превращает в «маленькую», а маленькую легче контролировать и которая меньше мешает в жизни.
В различных видах психотерапии так или иначе происходит отчуждение пациента от симптома, что Л. Р. Перес называет «разоблачением симптома» [18]. Это происходит, когда пациенту объясняют, что его симптом – это совсем не то, что ему кажется, а на самом деле – это проявление… И, в зависимости от теоретических установок психотерапевта, находится широкий диапазон предлагаемых пациен-ту/клиенту смыслов симптома: от Эдипова комплекса до … мышечных зажимов. При этом пациенту предлагаются разные варианты расшифровки симптомов в зависимости от исходных теорий и установок самого психотерапевта.
Тем самым создаются условия для превращения симптома, и всего с ним ассоциированного в представлении пациента, в предмет анализа, проработки, переобучения, переформатирования и т. п. А эффективность терапии зависит от степени принятия клиентом предлагаемой психологической модели психотерапевта. Поэтому клиентам психоаналитиков обычно снятся так называемые психоаналитические сны, и все они, рано или поздно (в зависимости от того, сломлено ли «сопротивление»), признают в себе комплекс Эдипа или кастрации и асоциальные влечения. Юнгианские пациенты начинают грезить мандалами, архетипическими образами и готовы вместе с доктором стремиться к Самости. Пациенты, проходящие индивидуальную терапию по Адлеру, осознают в «себе чувство неполноценности и волю к власти… Из сказанного с очевидностью следует, что симптом превращается в стимул для проекционной работы психотерапевта, который через симптом проецирует на пациента свою теоретическую концепцию, которую можно определить, по мнению М. М. Огинской, как «психотерапевтический миф» [16].
В таком аспекте симптом правомерно сравнить со своеобразным пятном Роршаха, лишенным собственного содержания, но в котором каждый психотерапевт находит отражение концепции своей школы, как некую свою «психическую реальность» [9]. Однако пациенты часто обращаются к психотерапевтам с конкретным заказом на устранение симптомов, вызывающих ограничения в их жизни. Но они не знают, что в психотерапии принято считать симптоматическую психотерапию поверхностной, второсортной, и что поэтому психотерапевт, в соответствии со своим «психотерапевтическим мифом», предлагает длинную программу коррекции личностных проблем. Хотя общеизвестно, что М. Эриксон очень «бережно» относился к симптому, считал его проявлением сильных сторон личности и полагал, что во многих случаях его устранение является достаточной для пациента целью терапии [20].
Как следует из предложенного выше текста, симптом, как и любое психическое явление, обладает сложными системными качествами, оказывается связанным с различными сторонами психики и телесности пациента. Поэтому симптоматическая психотерапия не является узко локальным «психохирургическим вмешательством», оставляющим некий «психический рубец», как потенциальный источник рецидива. Эта совместная с врачом творческая работа, центрированная на устранение симптома и ассоциированных с ним проблем, обогащает пациента новым опытом и способствует развитию его личности.
Л итература
-
1. Бурлачук Л. Ф. Исследование личности в клинической психологии (на основе метода Роршаха). – Киев : Вища школа. Головное изд-во, 1979. – 176 с.
-
2. Бурно М. Е. Клиническая психотерапия. – М.: Академический проект, 2000. – 719 с.
-
3. Гиндикин В. Я. Лексикон малой психиатрии. – М.: Крон-пресс, 1977. – 566 с.
-
4. Дилтс Р., Делозье Дж. НЛП-2: поколение Nex / пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. – 320 с.
-
5. Жмуров В. А. Большая энциклопедия по психиатрии. – 2-е изд. – М., 2012.
-
6. Завьялов В. Ю. Парадокс психотерапии: лечение без лечения больного без болезни. – 2013. – Электронный ресурс : viewtopic.php?f=680&t=447.
-
7. Карвасарский Б. Д., Незнанов Н. Г. Психотерапия // Психиатрия: национальное руководство / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – С. 828—863.
-
8. Кемппински А. Психопатология неврозов / пер. с польского. – Варшава : Польское медицинское издание, 1975. – 359 с.
-
9. Красильников Г. Т. «Психическая реальность» в психотерапии // Психотерапия. – 2009. – № 2. – С. 21—26.
-
10. Красильников Г. Т. Значение понятия симптом в клинической психиатрии (Опыт профессиональной рефлексии) // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. – 2015. – № 2. – С. 14—19.
-
11. Лейбин В. Словарь-справочник по психоанализу. – М.: АСТ МОСКВА, 2010. – 956 с.
-
12. Макаров В. В. Психотерапия нового века. – М.: Академический Проект, 2001. – 496 с.
-
13. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе. – М.: Независимая фирма «Класс», 1998. – 480 с.
-
14. Малейчук Г. И. Смотреть за симптом. – 2013. – Электронный ресурс : viewtopic.php?f=680&t=447
-
15. Международная классификация болезней (10-й пересмотр). Классификация психических и поведенческих расстройств. – СПб., 1994. – 304 с.
-
16. Огинская М. М., Розин М. В. Мифы психотерапии и их функции // Вопросы психологии. – 1991. – № 4. – С. 10—19.
-
17. Пере М . Клиническая психология / под ред. М. Перре, У. Бауманна. – СПб.: Питер, 2002. – 1312 с.
-
18. Перес Л. Р. Психотерапевтическое лечение фобических состояний и посттравматического стресса. – М.: Маренго-Принт, 2001. – 53 с.
-
19. Психотерапевтическая энциклопедия / под ред.
-
20. Эриксон М., Хейли Д. Необыкновенная терапия Милтона Эриксона. – М.: Институт общегуманитарных исследований, 2012. – 367 с.
Б. Д. Карвасарского. – СПб.: Питер, 2002. – 1024 с.
Транслитерация русских источников
Burlachuk L.F. [Investigation of the personality in clinical psychology (based on Rorschach’s method)]. Kiev: Vish-cha shkola, 1979. 176 p. (In Russ.).
Burno M.E. [Clinical psychotherapy]. Moscow: Akademicheskii proekt, 2000. 719 p. (In Russ.).
Gindikin V.Ya. [Lexicon of minor psychiatry]. Moscow: Kron-press, 1997. 566 p. (In Russ.).
Dilts R., DeLozier J. [NLP-II: Generation Next]. Trans. from English. Saint-Petersburg: Piter, 2012. 320 p. (In Russ.).
Zhmurov V.A. [Big encyclopedia of psychiatry]. 2nd ed. Мoscow, 2012. (In Russ.).
Karvasarsky B.D., Neznanov N.G. [Psychotherapy]. In: [Psychiatry: National Handbook]. T.B. Dmitrieva, V.N. Krasnov, N.G. Neznanov, V.Ya. Semke, A.S. Ti-ganov, eds. Moscow: GEOTAR-Media, 2009; 828–863. (In Russ.).
Kempinski A. [Psychopathology of neuroses]. Trans. from Polish. Warsaw: Polish medical publication, 1975. 359 p. (In Russ.).
Krasilnikov G.T. [“Psychic reality“ in psychotherapy]. Psik-hoterapiya [Psychotherapy]. 2009; 2: 21—26. (In Russ.).
Krasilnikov G.T. [Value of the concept symptom in clinical psychiatry (Professional reflection experience)]. Sibirskii vestnik psikhiatrii i narkologii [Siberian Herald of Psychiatry and Addiction Psychiatry]. 2015; 2: 14–19. (In Russ.).
Leybin V. [Glossary of psychoanalysis]. Moscow: AST Moscow, 2010. 956 p. (In Russ.).
Makarov V.V. [Psychotherapy of the new century]. Moscow: Akademicheskii proekt, 2001. 496 p. (In Russ.).
McWilliams N. [Psychoanalytic diagnostics: Understanding the structure of the individual in the clinical process]. Moscow: The independent firm “Class”, 1998. 480 p. (In Russ.).
Maleychuk G.I. [Watching symptom]. 2013. viewtopic. php?f=680&t=447 (In Russ.).
[International Classification of Diseases (10th revision). Classification of Mental and Behavioural Disorders. World Health Organization]. Saint-Petersburg, 1994. 304 p. (In Russ.).
Oginskaya M.M., Rozin M.V. [Myths of psychotherapy and their functions]. Voprosy psikhologii [Issues of Psychology]. Moscow, 1991. 4: 10 – 19. (In Russ.).
Perre M. [Clinical psychology]. M. Perre, U. Baumann, eds. Saint-Petersburg: Piter, 2002. 1312 p. (In Russ.).
Perez L.R. [Psychotherapeutic treatment of phobic states and post-traumatic stress]. Moscow: Marengo-Print, 2001. 53 p. (In Russ.).
[Psychotherapeutic Encyclopaedia]. B.D. Karvasarsky, ed. Saint-Petersburg: Piter, 2002. 1024 p. (In Russ.).
Erickson M., Haley D. [Unusual therapy of Milton Erickson]. Moscow: Institute of General-Humanitarian Research, 2012. 367 p. (In Russ.).
l
Список литературы Психотерапевтическое значение симптома
- Бурлачук Л. Ф. Исследование личности в клинической психологии (на основе метода Роршаха). -Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1979. -176 с.
- Бурно М. Е. Клиническая психотерапия. -М.: Академический проект, 2000. -719 с.
- Гиндикин В. Я. Лексикон малой психиатрии. -М.: Крон-пресс, 1977. -566 с.
- Дилтс Р., Делозье Дж. НЛП-2: поколение Nex/пер. с англ. -СПб.: Питер, 2012. -320 с.
- Жмуров В. А. Большая энциклопедия по психиатрии. -2-е изд. -М., 2012.
- Завьялов В. Ю. Парадокс психотерапии: лечение без лечения больного без болезни. -2013. -Электронный ресурс: viewtopic.php?f=680&t=447.
- Карвасарский Б. Д., Незнанов Н. Г. Психотерапия//Психиатрия: национальное руководство/под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, B. Я. Семке, А. С. Тиганова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. -С. 828-863.
- Кемппински А. Психопатология неврозов/пер. с польского. -Варшава: Польское медицинское издание, 1975. -359 с.
- Красильников Г. Т. «Психическая реальность» в психотерапии//Психотерапия. -2009. -№ 2. -С. 21-26.
- Красильников Г. Т. Значение понятия симптом в клинической психиатрии (Опыт профессиональной рефлексии)//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -2015. -№ 2. -С. 14-19.
- Лейбин В. Словарь-справочник по психоанализу. -М.: АСТ МОСКВА, 2010. -956 с.
- Макаров В. В. Психотерапия нового века. -М.: Академический Проект, 2001. -496 с.
- Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе. -М.: Независимая фирма «Класс», 1998. -480 с.
- Малейчук Г. И. Смотреть за симптом. -2013. -Электронный ресурс: viewtopic.php?f=680&t=447
- Международная классификация болезней (10-й пересмотр). Классификация психических и поведенческих расстройств. -СПб., 1994. -304 с.
- Огинская М. М., Розин М. В. Мифы психотерапии и их функции//Вопросы психологии. -1991. -№ 4. -C. 10-19.
- Пере М. Клиническая психология/под ред. М. Перре, У. Бауманна. -СПб.: Питер, 2002. -1312 с.
- Перес Л. Р. Психотерапевтическое лечение фобических состояний и посттравматического стресса. -М.: Маренго-Принт, 2001. -53 с.
- Психотерапевтическая энциклопедия/под ред. Б. Д. Карвасарского. -СПб.: Питер, 2002. -1024 с.
- Эриксон М., Хейли Д. Необыкновенная терапия Милтона Эриксона. -М.: Институт общегуманитарных исследований, 2012. -367 с.