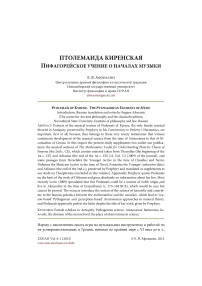Птолемаида Киренская пифагорейское учение о началах музыки
Автор: Афонасин Евгений Васильевич
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Переводы
Статья в выпуске: 1 т.6, 2012 года.
Бесплатный доступ
Выдержки из трактата единственной в истории античной науки женщины музыковеда Птолемаиды Киренской, сохраненные Порфирием в его Комментарии к Гармонике Птолемея, важны, прежде всего, потому, что принадлежат к тем немногочисленным свидетельствам, которые позволяют проследить развитие античной музыкальной теории в период от Аристоксена до Никомаха. В этом отношении данная работа дополняет две предшествующие публикации в нашем журнале: музыкальные разделы «Изложения предметов, полезных при чтении Платона» Теона Смирнского (II в. н. э.), в котором цитируются Трасилл (начало I в. н. э.) и Адраст (конец I в. н. э.) [Vol. 3.2 (2009), перевод А. И. Щетникова], и выдержки из работ Гераклида Младшего (жившего во времена Клавдия и Нерона), музыковеда Дидима (жившего во времена Нерона), Панетия Младшего (время жизни неизвестно) и Элиана (конец II в. н. э.), также сохранившихся в составе Комментария Порфирия [см. приложение к нашей работе о Теофрасте выше в этом выпуске журнала]. Порфирий цитирует Птолемаиду на основе работы Дидима и абсолютно ничего не сообщает о ее жизни. В своей недавней работе Ф. Левин (Levin 2009) предположила, что она могла быть знатной дамой, жившей во времена Эратосфена (ок. 275-194 гг. до н. э.), что позволило бы поместить ее в контекст богатой интеллектуальной жизни Александрии того времени. В сохранившихся выдержках вводится понятие науки «каноники» (kanonike) и обсуждается известная полемика между mathematikoi и mousikoi, отстаивающих, соответственно, рациональный пифагорейский и эмпирический аристоксенианский подходы к музыкальной теории. Невзирая на приведенный Порфирием заголовок трактата, Птолемаида явно предпочитает последний их этих подходов.
Женщины-ученые в древности, пифагорейская наука, гармоника, аристоксен, деление монохорда, роль наблюдения в научном исследовании
Короткий адрес: https://sciup.org/147103325
IDR: 147103325
Текст научной статьи Птолемаида Киренская пифагорейское учение о началах музыки
Наряду с накоплением опыта игры на музыкальных инструментах и работой по их усовершенствованию, в Греции, начиная по крайней мере с VI века до н. э.,
ΣΧΟΛΗ Vol. 6. 1 (2012)
развивается музыкальная теория, ассоциируемая почти исключительно с пифагорейской традицией. Эта теория, впоследствии названная гармоникой, была призвана выявить внутренний порядок в музыке, найти ее составные элементы и объяснить их взаимные отношения. Сделать это можно было разными способами и к IV веку до н. э. сформировалось несколько подходов, затем оформившихся в виде двух традиций – «пифагорейской» и «аристоксенианской». Ари-стоксен имел предшественников, неких «гармоников», возможно, ранних теоретиков музыки, а также многочисленных последователей, таких как Клео-нид, Бакхий и Гаудентий, нередко догматично развивающих положения его теории в отрыве от описываемого явления. При этом не прекращались поиски новых путей, а «традиции» отнюдь не были монолитными и допускали разнообразные вариации вплоть до попыток найти способ их примирения. К сожалению, наши сведения об этих процессах очень фрагментарны и происходят из работ недоброжелательных критиков или позднейших комментаторов. Так, пифагореец Никомах в последней главе своего Руководства по гармонике делает уступку аристоксенианскому подходу, напротив, аристоксенианец Гаудентий в своем Введении в гармонику большой раздел (главы с 10-й по 16-ю) посвящает изложению пифагорейской теории пропорций, первая книга трактата Аристида Квинтилиана О музыке аристоксенианская, в то время как третья – пифагорейская и т. д. (см. Barker 2007, 441).
Согласно Аристоксену задачей науки гармоники является изучение музыки так, как мы ее слышим. Она должна понять внутреннюю организацию созвучия и показать, почему одни последовательности звуков образуют мелодию, а другие – нет. Как следствие, оказываются неприемлемыми любые попытки свести «чистую» музыкальную природу к чему-то иному, например, к анализу физических явлений, порождающих звук, или математической теории музыкальных интервалов. Музыкальные явления не следует переводить на другой язык, например, язык акустики или геометрии. Аристоксену не важно, соответствует ли отдельным нотам и музыкальным интервалам, воспринимаемым нами на слух, нечто, расположенное за пределами самой музыки, вроде движения души, о котором говорил Теофраст (подробнее см. выше в этом номере).
Будучи сыном музыканта и получивший хорошее музыкальное образование, Аристоксен предпочитает говорить на языке профессионала. По этой причине, рассуждая о реально воспринимаемых звуках и музыкальных интервалах, он избегает соотносить их с такими «немузыкальными» явлениями, как, например, отношение высоты звука и скорости колебания струны. Мелодическое звучание анализируется натренированным ухом профессионального музыканта само по себе, независимо от внешних обстоятельств, таких как математическая теория интервалов: никакое замысловатое описание взаимного отношения созвучий не объяснит того, что делает мелодию мелодией.
Таковы основные признаки аристоксенианского подхода. Напротив, как только в музыкальном тексте появляется утверждение, что все созвучные интервалы приобретают свои музыкальные качества благодаря их математиче- ским свойствам, или делаются попытки понять физику звучания, исследователи, как древние, так и современные, склонны усматривать в этом пифагорейское влияние, и вековой спор о природе музыкальной гармонии продолжается.
Сохранилось несколько свидетельств того, как древние авторы представляли себе этот спор. Для этого обратимся к Комментарию неоплатоника Порфирия к Гармонике Птолемея, который ценен прежде всего выдержками из работ ранних теоретиков музыки. Интересуясь, что естественно для философа-неоплатоника, скорее теоретическими, нежели прикладными аспектами музыки, он по большей части комментировал первую теоретическую книгу Гармоники и, кроме того, поставил перед собой довольно неожиданную задачу – найти и показать читателю те источники по музыкальной теории, на которые Птолемей неявно опирался. В результате комментарий сохранил важные фрагменты сочинения Архита из Тарента, старшего современника Платона и одного из столпов пифагорейской гармоники, является единственным источником трактата Аристотелевского корпуса О слышимом (De audibilibus) – он приписывает его Аристотелю – и утраченного сочинения О музыке преемника Аристотеля Теофраста (61.16–65.15 Düring), приводит иначе неизвестную теорему Псевдо-Евклидова Деления канона (98.14 сл. и др.) и т. д.
Наряду с уникальными выдержками из работ этих древних авторов, он сохранил фрагменты трудов теоретиков музыки, живших в «темные века» античной музыковедческой науки – в период от Аристоксена из Тарента до Ни-комаха из Герасы. Эта информация уникальна, так как за исключением двух авторов Ι – начала ΙΙ вв. н. э., платоника Трасилла и «перипатетика» Адраста (оба цитируются Теоном Смирнским),1 о теоретиках музыки до ΙΙ в. н. э. мы узнаем почти исключительно от Порфирия. В его трактате мы находим три выдержки из «Пифагорейского учения о началах музыки» Птолемаиды Кирен-ской (22.22–23.22, 23.24–24.6 и 25.3–26.5 Düring), два экстракта из трактата «О споре последователей Аристоксена и пифагорейцев» музыканта Дидима (26.6–29 и 27.17–28.26), выдержку из «Музыкального введения» Гераклида (30.1–31.21), две цитаты из Комментария на Тимей (по крайней мере, в двух книгах) «платоника Элиана», в которых, на примере различных инструментов, дается физическое объяснение понятию высоты звука (33.16–37.5 и 96.7–15) и экстракт из «О пропорциях и интервалах в геометрии и музыке» Панетия «Младшего» (65.21–67.10).2
О Панетии Младшем, которого следует отличать от Панетия Родосского, главы стоической школы ок. 129 г. до н. э., мы не знаем более ничего, однако Элиан – это, возможно, римский ритор конца ΙΙ в. Клавдий Элиан. Складывается впечатление, что Порфирий был непосредственно знаком с его трактатом. Напротив, еще Дюринг (Düring 1934) заметил, что Порфирий должно быть не располагал текстом Птолемаиды, и все его сведения о ней происходят из работы музыковеда Дидима. Этот Дидим, скорее всего, был грамматиком, упоминаемым Климентом Александрийским в качестве автора книг о пифагорейской философии и жившим, согласно Суде, во времена Нерона, нежели Дидимом Александрийским, плодовитым писателем Ι в. до н. э. Отцом этого Дидима, согласно Суде, был Гераклид, также музыковед, учившийся у Дидима Алексан-дрийского.3 Примечательно, что выдержку из его сочинения Порфирий приводит почти сразу после нескольких цитат из трактата его сына, так что не исключено, что о Гераклиде он узнал благодаря тому же трактату Дидима. Недошедшая до нас, но известная Птолемею и Порфирию работа (или компиляция) Дидима о музыке должно быть обладала определенной ценностью. И хотя утверждение Порфирия (5.11) о том, что Птолемей многое заимствовал из Дидима, не сообщая читателю об этом, может быть приувеличением, характерно, что сам Птолемей упоминает только трех теоретиков музыки, писавших до него: Архита, Аристоксена и Дидима (последнего при обсуждении предложенного им нового деления монохорда, см. Птолемей, Гармоника II 13–14).
Птолемаида должно быть жила несколькими поколениями раннее Дидима, и предположение о том, что она работала или училась в Александрии, выглядит естественным. В своей недавней книге Ф. Левин попыталась вписать Пто-лемаиду в исторический контекст. Ее exempli gratia реконструкция ничему не противоречит, и может быть принята в качестве привлекательной гипотезы, хотя и недоказуемой ввиду отсутствия данных. Согласно Левин (Levin 2009, 230 ff.), Птолемаида была знатной дамой из царского египетского рода и находит подходящую кандидатуру: она считает, что Птолемаида могла быть дочерью Деметрия Прекрасного (вступившего на престол в 259 г. до н. э.) и Апамы Сирийской, и сводной сестрой Береники ΙΙ, королевы Египта, прославленной, невзирая на ее многочисленные злодеяния, Каллимахом. Будучи отстранена от политики, Птолемаида вполне могла войти в круг Александрийских ученых того времени, таких как Эратосфен (ок. 275–194 гг. до н. э.).
Сообщения Порфирия о Птолемаиде и Дидиме обладают некоторой целостностью. Начнем с фрагментов из трактата единственной в истории античной науки женщины-музыковеда Птолемаиды Киренской (22.22–23.22 Düring):
Птолемаида Киренская (Πτολεμαῒς ἡ Κυρηναία) в «Пифагорейском учении о началах музыки» (ἐν τῇ Πυθαγορικῇ τῆς μουσικῆς στοιχειώσει), говорит об этом так: «Кому наиболее присуща такая наука, как каноника (ἡ κανονικὴ πραγματεία)? В целом, пифагорейцам. Ведь то, что мы ныне считаем гармоникой, они называли каноникой. Откуда происходит термин “каноника”? Не от инструмента, называемого каноном, как думают некоторые, но по причине прямизны [“канона”], так как благодаря этой науке разум (λόγος) находит то, что правильно, и каковы правила настройки (τὰ τοῦ ἡρμοσμένου παραπήγματα)».4
Действительно, далее замечает Порфирий, наука каноники применима к таким «неканоническим» инструментам, как сиринг и авл потому, что и они могут быть исследованы на основании тех же пропорций и теорем. Так что скорее монохорд назван каноном в честь науки каноники, нежели наоборот. Кроме того, «канониками» следует называть пифагорейцев, занимающихся построением математических пропорций, а «музыкантами» – тех теоретиков гармонии, которые для изучения музыкальных явлений прибегают к реальным моделям и исследуют их актуальное звучание.5
Возможно, термин «каноника» ввела в обращение не Птолемаида, однако в известных нам текстах здесь он появляется впервые. Хотя буквально κανών означает линейку, позволяющую измерять длину и выверять прямизну линий,6 термин легко подвергался обобщению. Так Эпикур делил философию на «канонику» (κανονικόν), физику и этику. «Каноном» называется и перекладина кифары, к которой крепятся струны (как замечает и Порфирий непосредственно перед этой цитатой).
Термин παραπήγμα, обычно означающий календарь или астрономическую таблицу, по отношению к монохорду больше никто не употребляет. Вероятно, Птолемаида имела в виду реальное или воображаемое устройство для измерения интервалов на монохорде, аналогичное тем, которые применялись для подвижных шкал календарей.
Цитата продолжается. Птолемаида продолжает развивать свою мысль «в форме вопросов-ответов»:
«Что включает в себя теория канона? То, что постулируют музыканты и принимают математики».7
Постулируемое «музыкантами», поясняет Порфирий, – это то, что «каноники» получают из опыта, например, знание того, что существуют созвучные и несозвучные интервалы, или что октава складывается из кварты и квинты, а разница между квартой и квинтой составляет тон. «Математики» же принимают в качестве аксиом все то, что «каноники» исследуют теоретически на основе чувствен- ного опыта, к примеру, что интервалы связаны с математическими пропорциями. Следовательно, «каноника» удачно сочетает в себе особенности основанной на практике «музыки» и строгой математической теории музыкальных интервалов, вроде той, что излагается в Делении канона.
Цитата продолжается (23.24–24.6):
В вышеупомянутом введении Птолемаида пишет об этом следующее: «Пифагор и его преемники готовы в самом начале принять чувственные данные (αἴσθησις) в качестве руководства для разума (λόγος), чтобы обеспечить его как бы зародышами (ζώπυρά); однако как только разум получает от них толчок к развитию, он начинает действовать сам по себе и независимо от чувств, так что если система (σύστημα), открытая разумом в процессе исследования, не согласуется (συνᾴδῃ) с чувственным опытом, они не возвращаются назад, на возражения отвечая, что, дескать, чувства ошибаются, а разум способен открыть самостоятельно то, что правильно, и не нуждается в чувствах.8
Противоположной им точки зрения придерживаются некоторые из “музыкантов”-последователей Аристоксена: посвятив себя теории, основанной на умозрении, они тем не менее начинают с того, что постигли из опыта игры на инструментах. Чувственные данные они считают первичными, а разум следующим за ними и используемым лишь в меру необходимости. Поэтому им кажется естественным, что разумные положения канона не всегда согласуются с чувствами».9
Следом, со ссылкой на Синтаксис Птолемея, Порфирий пытается сгладить противоречие, замечая, что смысл и причины природных явлений ищут и наблюдатель и ученый, так как в мире нет ничего, что не подчинялось бы определенному плану и неслучайно занимало свое место в мироустройстве. Несколько ниже идет последний экстракт, причем часть фрагмента, процити- рованного незадолго до этого, в Комментарии воспроизводится снова с минимальными изменениями (25.3–26.5):10
Об этом Птолемаида из Кирены написала кратко в своем введении, а музыкант Дидим более детально рассмотрел это в трактате «О споре последователей Аристоксена и пифагорейцев» (Περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν Ἀριστοξενείων τε καὶ Πυθαγορείων). Приведем из них несколько выдержек, с изменениями ради краткости. Птолемаида пишет так:
«В чем расходятся между собой знатоки музыки? Некоторые предпочитают один лишь разум (λόγος), некоторые – чувственные данные, а некоторые – и то и другое. Разум выбирают те из пифагорейцев, которые склонны к спору с музыкантами; полностью отвергая чувственный опыт, они вводят разум сам по себе в качестве автономного критерия. Их позиция полностью опровержима: приняв в начале рассуждения некоторые данные опыта, они сами затем забывают об этом. Напротив, практики («инструменталисты», ὀργανικοί) предпочитают чувства, не придавая теории вообще никакого или очень мало значения.11
В чем расходятся между собой те, кто предпочитает и то и другое? Одни признают разум и восприятие равносильными, другие же одно считают ведущим, а другое ведомым.12
Равными их считает Аристоксен из Тарента. Ведь воспринятое чувствами невозможно собрать воедино без помощи разума, но и разум не в силах установить что-либо, не обратившись сначала к чувственным данным, чтобы теперь получить такой вывод своих теорем, который согласовывался бы с чувствами.13
В каком смысле он желает видеть чувство ведомым разумом? По порядку следования, не по силе. Когда мы постигаем, по его словам, чув- ственно воспринимаемую вещь, чем бы она не оказалась, мы должны вперед пустить разум, чтобы он сформировал теорию о ней.14
Кто же то и другое считает схожим? Пифагор и его преемники. Ведь они готовы в самом начале принять чувственные данные (αἴσθησις) в качестве руководства для разума, чтобы обеспечить его как бы зародышами (ζώπυρά); однако как только разум получает от них толчок к развитию, он начинает действовать сам по себе и независимо от чувств, так что если система (σύστημα), открытая разумом в процессе исследования, не согласуется (συνᾴδῃ) с чувственным опытом, они не возвращаются назад, на возражения отвечая, что, дескать, чувства ошибаются, а разум способен открыть самостоятельно то, что правильно, и не нуждается в чувствах.
Чьи воззрения им противоположны? Некоторых “музыкантов”-последователей Аристоксена: посвятив себя теории, основанной на умозрении, они тем не менее начинают с того, что постигли из опыта игры на инструментах. Чувственные данные они считают первичными, а разум следующим за ними и используемым лишь в меру необходимости».
Далее Порфирий приводит две цитаты из Дидима. В первой (26.6–29) музыковед комментирует высказывание Птолемаиды, добавляя некоторые детали. В частности, он говорит, что практики («инструменталисты», ὀργανικοί, и «певцы», φωνασκικοί) базируют свои знания на опыте (τριβή) не потому, что они совершенно не прибегают к силе разума, но лишь в том смысле, что в своих рациональных рассуждениях они считают излишними доказательства (ἀπόδειξις). Напротив, пифагорейцы признают только те из основанных на чувственных данных выводов, которые не противоречат научно обоснованной теории. Наконец, в качестве теоретика, «признающего данные чувств и выводы разума, но отдающего некоторое предпочтение разуму», он называет Архестра-та, очевидно, того музыканта, о котором говорит Филодем (I в. до н. э.), обвиняя его «последователей» в том, что, увлекшись теорией, они совершенно забыли о том природном явлении, которому посвящена их наука (О музыке 91). Мы ничего не знаем об этой школе, стремящейся найти баланс между музыкальной теорией Аристоксена и пифагорейскими спекуляциями. Баркер (Barker 1989, 249 ff.) допускает, что сторонниками этого подхода могли быть Архит, Эратосфен и сам Дидим.
Несколькими строками ниже (27.17) выдержка из Дидима продолжается. Со ссылками на Аристоксена Дидим настаивает на том, что
«…музыка – это не только рациональная наука, но область познания, в равной мере касающаяся как рационального, так и чувственного, поэтому серьезному исследователю не следует пренебрегать одним из них, отда- вая предпочтение тому, что открывается в чувственном восприятии, так как именно с него начинает свою работу разум».15
Затем Дидим замечает, что в отличие от геометра, который, доказывая теорему, может начертить на доске кривую линию и назвать ее прямой, так как ему не нужно «убеждать зрение» в том, что линия прямая и его рассуждение может носить полностью умозрительный характер, музыкант не вправе назвать квартой любой интервал, потому что эта предполагаемая кварта должна затем оказаться интервалом, созвучным на самом деле, а не только в теории. Таков, добавляет Дидим (или Порфирий?) характер (τρόπος) критерия, предложенного Аристоксеном в первой книге Начал гармоники.16
Список литературы Птолемаида Киренская пифагорейское учение о началах музыки
- Щетников, А. И., пер. (2009) «Теон Смирнский. Изложение математических предметов, полезных при чтении Платона», ΣΧΟΛΗ. Философское антиковедение и классическая традиция 3: 466-558.
- Barker, A. (1989) Greek Musical Writings II, Harmonic and Acoustic Theory. Cambridge.
- -(2007) The Science of Harmonics in Classical Greece. Cambridge.
- Düring, I. (1932) Porphyrios Kommentar zur Harmonielehre des Ptolemaios. Gothenburg.
- -(1934) Ptolemaios und Porphyrios über die Musik. Gothenburg.
- Gottschalk, H. B.(1980) Heraclides of Pontus. Oxford.
- Levin, F. R. (2009) Greek Reflections on the Nature of Music. Cambridge UP.
- Wehrli, F. (1953) Heracleides Pontikos, Die Schule des Aristoteles, IV. Basel.