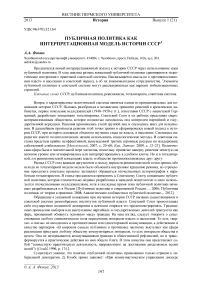Публичная политика как интерпретационная модель истории СССР
Автор: Фокин Александр Александрович
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История советского общества
Статья в выпуске: 1 (21), 2013 года.
Бесплатный доступ
Предлагается новый интерпретационный подход к истории СССР через использование идеи публичной политики. В ходе анализа разных концепций публичной политики сравниваются теоретические построения с практикой советской системы. Высказывается мысль не о противопоставлении власти и населения в советский период, а об их взаимовыгодном сотрудничестве. Элементы публичной политики в советской системе могут рассматриваться как вариант мобилизационных стратегий.
Ссср, публичная политика, ревизионизм, тоталитаризм, советская система
Короткий адрес: https://sciup.org/147203453
IDR: 147203453 | УДК: 94(470):321.64
Текст научной статьи Публичная политика как интерпретационная модель истории СССР
Вопрос о характеристике политической системы является одним из принципиальных для понимания истории СССР. Пытаясь разобраться в механизмах принятия решений в кремлевских кабинетах, первое поколение исследователей (1940–1950-е гг.), сопоставив СССР с нацистской Германией, разработало концепцию тоталитаризма. Советский Союз в их работах представал сверхцентрализованным обществом, которое полностью находилось под контролем партийной и государственной верхушки. Решения принимались узкой группой лиц и спускались вниз для исполнения. В дальнейшем произошла ревизия этой точки зрения и сформировался новый подход к истории СССР, при котором основным объектом изучения стала не власть, а население. Сменилась парадигма: вместо политологических начали использовать социологические методы. И советская система предстала крайне неэффективной, вынужденной тратить огромные ресурсы на поддержание собственной стабильности [ Меньковский , 2007, с. 20–60; Кип, Литвин, 2009, с. 12–23]. Политическая сфера была в значительной мере хаотична, поскольку принятые наверху решения зачастую на низовом уровне или игнорировались или интерпретировались в удобном ключе. Но и в тоталитарной, и в ревизионистской концепциях власть и общество противопоставлялись друг другу.
Распад СССР стал важным аргументом в пользу верности ревизионистской точки зрения, ибо исходя из тоталитарной модели нельзя было объяснить внутреннее крушение режима, но стремление преодолеть советское прошлое заставляет обращаться отечественных историографов к наработкам тоталитаристов. В статье предлагается применить к Советскому Союзу концепцию публичной политики, которая относительно недавно разработана в западной политологии и мало используется отечественными исследователями, хотя в последнее время тема публичной политики начинает разрабатываться и в России [Публичная политика в современной России…, 2006; Публичная политика: от теории к практике. 2008; Аналитические сообщества в публичной политике..., 2012].
Обращение к указанной концепции при изучении истории СССР вызвано существованием в советской системе разнообразных институтов публичной власти. Советский Союз провозглашал себя государством подлинной демократии и всячески старался это продемонстрировать. Традиционно проведение выборов или выступление партийных и государственных деятелей трактуется как фарс, призванный обмануть основную массу граждан. На наш взгляд, следует говорить о существовании особого символического поля пересечения интересов власти и населения. То есть «верхи» и «низы» не находились в противостоянии или односторонней коммуникации, а действовали в качестве партнеров. «В широком смысле публичное в противовес частному выступает как сфера реализации присущих любому обществу коммунитарных интересов, то есть интересов общества в целом. Она не исчерпывается коммуникациями граждан и общественной рефлексией, но и трансформируется в практические действия во имя общего блага. В этом качестве она представляет собой “совместную практическую деятельность, направленную на достижение разделяемых всеми целей”» [ Gould , 1996, p. 174.].
Существует мнение, что понятие «публичной политики» применению только странам к либеральной демократии. Д. Кумбс прямо заявляет: «При коммунистическом управлении дискурс
публичной политики не мог определять профессиональную деятельность чиновников даже самых высших эшелонов государственной власти, включая министров и глав правительственных учреждений, поскольку роль типичного государственного чиновника в те времена была реактивной и пассивной. Все инструкции приводились в исполнение в строгом соответствии с законом, а обязанности чиновника состояли в строгом следовании букве закона. Даже если было невозможно выполнить требуемое (что обычно и было), действовать “правильно” означало продемонстрировать, что формально сделано все для достижения цели» [ Кумбс, 2008, c. 339]. Нам такой взгляд представляется излишне идеологизированным и некорректным. В 1920-е г. российский пролетариат был политически «экспроприирован» (в терминологии М. Вебера) складывающейся номенклатурой, которая присвоила себе право говорить от лица рабочих, тем самым лишив их возможности прямой критики власти. Еще в РСДРП шли дискуссии о том, что «профессиональные революционеры» решают вопросы пролетарской революции, а среди них почти нет рабочих. Но, даже признав этот факт, нельзя говорить о полном исключении основной массы населения из политической жизни.
Существует несколько определений понятия «публичная политика» (Public Policy). Н. Шматко указывает на различное понимание его в англо-саксонской и французской традициях: «Исследования публичной политики в США базируются на понятии “government” и имеют почти исключительно прагматический характер. Изучение публичной политики восходит к ставшему общепринятым различию между policy (политикой как программой действий) и politics (политикой как системой взглядов). Западноевропейская и, в частности, французская традиции анализа публичной политики опираются на анализ государства и его роли в регуляции публичной сферы, рассматривают ее в аспекте становления, а затем кризиса модели “государства всеобщего благоденствия”. Проблема публичной политики рассматривается здесь в аспекте возрастающей неспособности современного государства решать социальные проблемы населения. Государство якобы устраняется от ответственности за решение этих проблем, и перекладывает ее, с одной стороны, на институты “гражданского общества”, а с другой – на “нейтральную” инстанцию – экспертов, выступающих от лица науки» [ Шматко ].
Говоря о французской традиции необходимо помнить об идее «полицейского государства» и различии между police и politics, на которое указывают левые исследователи (М. Фуко, Ж. Рансьер, и д.р.). Под police в данном случае понимается технологии наведения порядка, рациональная организация для управления. Тогда государство превращается в агента, который поддерживает порядок, обеспечивающий нормальное функционирование рынка. Реализуется идея «ночного сторожа» из классической либеральной доктрины, суть которой состоит в том, что государство выходит на арену исключительно в форс-мажорной ситуации. При этом происходит деполитизация власти, государство самоустраняется от принятия политических решений. Politics – это сфера публичных дебатов, которые ограничивают излишества управленческой практики. При этом предполагается высокая доля неопределенности и риска поскольку дебаты должны приводить к появлению нового знания и новых форм государственного управления, а не быть формальностью. Politics является исключением из правил политического менеджемента, ибо государству она мешает спокойно управлять, поэтому politics встречается в истории реже, чем власть. Politics сфера которая существует за рамками государства, но государство стремится монополизировать политику и ликвидировать всяческий протест и оппозицию, поскольку боится разрыва существующих шаблонов и создания новой реальности [ Макарычев, 2010, с. 43-50].
Исследовании в рамках итальянской школы публичной политики, ведутся в Болонском университете под руководством Джилиберто Капано. Ею разрабатывается концепт «драйверов» (drivers), или «движущих факторов», публичной политики, способствующих изменениям. При этом подчеркивается многозначность концепта «публичная политика»: она понимается и как арена борьбы политических акторов за удовлетворение собственных интересов; и как совокупность институтов, формальных правил, процедур и практик взаимодействия политических акторов, их когнитивные схемы и ценности; и как «форумы идей», на которых обсуждаются различные политические решения социальных проблем; и как цель постоянных «атак» и «интервенций» со стороны политических акторов и структур, изменяющих политические институты; и как сети зачастую институционализированных отношений между различными политическими акторами и институтами [ Беляева , 2011, с. 77].
Обращаясь к французской (континентальной) традиции, можно вспомнить «большую сдел- ку» между властью и учеными в СССР. «Профессора, а тем более члены Академии наук, не просто получали жалованье и многочисленные привилегии от государства, они чувствовали, что служат своей стране и ее культуре, а сам их тесный симбиоз с государством был выведен за пределы их сознания» [Александров, 2008, с. 630]. Государство и корпорация ученых вступают во взаимовыгодный союз. Идея «большой сделки» предполагает не существование «шарашек», которые часто выступают символом советской науки в рамках тоталитарной модели и в которых государство насильственными методами принуждает людей к работе, а создание символического поля, где все преследуют свои цели. Схожей точки зрения придерживается и Н.Ю. Беляева: «Еще в СССР была значительная академическая интеллектуальная традиция, история развития и становления советских аналитических структур – академических институтов (например, ИМЭМО, ИСК РАН), которые пользовались определённой автономией, были включены в глобальную политику и науку» [Беляева, 2012, c. 26]. Как любому государству, СССР необходимы были эксперты и производители знаний, которые являются одними из основных акторов в поле публичной политики. В связи с этим можно вспомнить «буржуазных специалистов» и «военспецов» в первые годы советской власти: несмотря на их «классовую чуждость», в прагматических целях большевики шли на сотрудничество с ними и руководствовались их мнением. Схожие примеры можно найти и в другие периоды истории СССР. Фактически любое значимое политическое решение вызревало при содействии экспертного сообщества. Представляется, что механизмы взаимодействия власти и экспертов требуют специального исследования.
В англо-саксонской традиции существует несколько иной подход к понимаю публичной политики: она трактуется как одна из форм государственного управления. Так, Д. Килпатрик понимает публичную политику как систему законов, регулирующих мер, финансирования какой-либо темы, обнародованной органом власти или его представителем [ Kilpatrick ]. Он отмечает, что отдельные лица или группы могут влиять на формирование политики, инициируемой государством. При этом публичная политика подразумевает конкуренцию между группами влияния. Схожих взглядов придерживаются большинство других англоговорящих авторов: они воспринимают публичную политику как принятие или не принятие разрешения какой-либо проблемы органами власти [ Pal , 1992.; Dunn , 2007.; Kraft, Furlog , 2009].
Как уже отмечалось, такое понимание публичной политики позволяет перенести ее в сферу политического менеджмента и политтехнологий. Но и этот подход может быть продуктивен в рамках исторических исследований. Так, В.К. Симонов, говоря о различии public policy и politics в англо-американской традиции, отмечает, что политика Людовика XIV или Франклина Делано Рузвельта также подпадает под определение public policy [ Симонов , 2002, с. 35]. Следовательно, и советский период может быть проанализирован исходя из практического понимания публичной политики.
Конкуренцию между группами влияниями можно обнаружить в разное время и на разных уровнях советской системы. Восприятие партийно-государственного аппарата СССР как монолитного вряд ли можно рассматривать всерьёз. Борьба групп могла идти открыто, например в ходе дискуссии о профсоюзах, при обсуждении плана индустриализации, или неформально, какую вела «русская партия» внутри КПСС [ Митрохин , 2003]), или локально [ Лейбович , 2008]. Теория групп предполагает наличие «доступа» к возможности принятия решений. Если в рамках либеральной демократии этот доступ зачастую приобретает характер лоббирования, формального или неформального, то в СССР представал в большинстве случаев как система патронажа. И в том и другом случае смена групп влияний приводит к смене политического курса.
Помимо партийно-государственного аппарата, сообщества экспертов и групп влияния в публичной политике участвует еще один важный актор – население. Конечно, любая генерализация приводит к упрощению, и при использовании понятий «советский народ», «советские граждане» упрощается сложная структура общества. Тем не менее в рамках публичной политики можно воспринимать их единого субъекта. В данном контексте следует рассматривать именно взаимовлияние и сотрудничество власти и населения.
Необходимо отметить, что участие населения в управлении государством было важной частью советской доктрины, которая была призвана утвердить принципы подлинной демократии. Уже в 1917 г. В.И. Ленин заявлял о том, что необходимо немедленно привлекать всех рабочих и бедноту к обучению управлению государством [Ленин, Т. 34. с. 315]. В дальнейшем в советских конституциях устанавливалось положение, являются власть в стране принадлежит именно народу и верховным органом власти были Советы народных депутатов. И.В. Сталин заявлял, что конституция СССР – единственная в мире до конца демократическая конституция, и указывал на существование социалистического демократизма [Сталин, Т. 14, с. 119–147]. Одним из его значимых положений было вынесение наиболее важных вопросов на всенародное обсуждение, в частности, такое обсуждение было организовано во время принятия Конституции СССР в 1936 и 1977 гг. и III Программы КПСС в 1961 г. И это не было фикцией, подобные механизмы позволяли власти и населению вступать в коммуникацию. Э. Кулевин пишет: «Многочисленные свидетельства различных периодов истории Советского государства подтверждают, что партийное руководство уделяло огромное внимание проблеме «обратной связи» с обществом» [Кулевин, 2009, с. 35]. Если в сталинской России режим интересовал прежде всего public display of affection (публичная демонстрация преданности) [Tikhomirov] – организация видимой интимности, создание репрезентаций и ритуалов выражения чувств любви, уважения, счастья в отношениях государства и общества в публичных пространствах без учета индивидуальных чувств и эмоций индивида, то после войны советское общество требует от государства проявления эмпатии к эмоциям и настроениям, потребностям и планам на будущее каждого отдельного гражданина. Характеризуя сталинскую эпоху, О. Хархор-дин отмечает, что «система была обеспокоена не чувствами граждан, а их публичным поведением» [Хархордин, 2002, с. 361]. И государство переходит к созданию каналов политической коммуникации и ее интенсификации, организации пространств вовлечения индивида в поле сотрудничества в осуществлении власти. Все это способствовало формированию «режима эмпатии», который не табуировал и не отвергал, а принимал и реагировал на индивидуальные чувства, потребности и надежды советского гражданина. Результатом данной политики стал и рост доверия к советскому порядку и общественная стабилизация в хрущевское и брежневское время.
Действительно, с одной стороны, социалистическая демократия имела ряд весьма специфических черт вроде избирательного процесса, в ходе которого выдвигался всего один кандидат от единого блока коммунистов и беспартийных, но, с другой стороны, было множество механизмов и каналов оказывать влияние как на региональную, так и на общесоюзную политику. При этом стоит понимать, что и в странах с либеральной демократией граждане непосредственно не участвуют в принятии решений, а делают это через своих представителей. В СССР даже формируется жанр «писем во власть» и люди учатся «говорить по-большевистски», дабы успешно вступать в коммуникацию с представителями партийного и государственного аппарата.
Процесс коммуникации между «верхами» и «низами» является важной составной частью публичной политики, ведь в русском языке это словосочетание наделяется коннотацией открытости и доступности для широкой публики. В современности возникает даже особый термин «медиадемократия», который означает, что основа власти заключается в ее репрезентации [ Черных , 2010, с. 4]. В XX в., когда технический прогресс способствовал бурному развитию СМИ, в том числе появлению радио и телевидения, именно образ власти становится более значимым, чем сама власть. Метафорично эту мысль выразил В. Пелевин в романе «Generation „П“»: страна управляется не реальными людьми, а специально созданными виртуальными персонажами, которых показывают по телевидению.
Я. Плампер показывает, как в 1930-е гг. сталинский режим работал в сфере саморепрезента-ции [ Плампер , 2010]. Важно было не только разместить в печати фотографию или портрет И.В. Сталина, но и выбрать подходящее к случаю, нужного размера и качества изображение. Представители власти и СМИ понимали, что во многом реакция населения формируется под влиянием публичных репрезентаций политических действий. Я. Плампер приходит к интересному заключению: целенаправленные действия по созданию «культа личности» имели незначительный эффект, но он складывался благодаря цепной реакции, возникающей среди населения. Схожую активность «низов» в формировании официальной доктрины можно обнаружить и в первые годы советской власти, когда проходила мифологизация Октябрьской революции и Гражданской войны [ Нарский , 2004, с. 395].
Говоря о роли СМИ в советской публичной политике, необходимо понимать их подчинённый статус. Если в западной демократии как предполагается, СМИ выступают силой, которая противостоит властям в интересах общества, то в СССР СМИ были встроены в систему агитации и пропаганды. Но это не означает, что они были простыми рупорами идеологических догм. На наш взгляд, гораздо продуктивнее рассматривать их как медиаторы между властью и населением. Некорректно воспринимать функции медиатора как направленные в одну сторону – сверху вниз, в виде механизмов донесения и разъяснения неких теоретических построений основной массе граждан. C помощью медиаторов общество могло влиять на власть, которая с момента установления советской власти искала средства для дополнительной легитимации себя. Сам механизм агитации и пропаганды был далек от совершенства и мало походил на машину по промывание мозгов. Следует говорить не о монологе, а о диалоге власти с обществом, однако с перевесом в сторону властных структур.
Медиаторы использовали два способа трансляции – явный и скрытый. Первый непосредственно затрагивает актуальную повестку дня. Основная его форма – толкование официального дискурса через ответы на вопросы, интересующие население, и очерчивание круга ожиданий, выстраивание границ, за которые мысли населения не должны выходить. Это объясняет однотипность содержания разных видов медиаторов. Второй способ связан с апеллированием к скрытым областям массового и индивидуального сознания, в первую очередь к мифологической составляющей [ Фокин , 2012, с. 78].
Все изложенное позволяет говорить если не о наличии публичной политики в СССР, то о возможности применения ее положений к советскому режиму. Хотя, в силу того, что российские исследователи, скорее всего будут разрабатывать понятие «публичная политика» в рамках англоамериканской традиции – как инструментальный подход к государственному управлению, следует говорить о публичной сфере, или открытом политическом поле, дабы не вносить сумбур в интерпретацию термина. В данном случае «публичная политика» как возможная интерпретационная модель советского прошлого, которая в дальнейшем требует подтверждения или опровержения на основании фактического материала.
В связи с этим необходимо сделать отсылку к наследию Ю. Хабермаса, который понятие «публичная сфера», понимая под ней область общественной жизни в которой может сформироваться общественное мнение, выполняющее функцию критики и контроля государственной власти, как правило неформально, за исключением случаев участия в официально назначенных выборах. Часть публичной сферы складывается в процессе каждого разговора, частные лица, участвуя в обсуждении каких-то важных на групповом уровне проблем, тем самым превращаются в публику. Можно сказать и по-другому: граждане (не профессионалы, не бюрократы) становятся публикой, когда имеют дело с вопросами, представляющими общий интерес. По-видимому, в данной ситуации важен сам процесс говорения о вещах, представляющих интерес для других. Если публика многочисленна, то оказываются необходимыми инструменты-посредники. В этой роли, как правило, выступают средства массовой информации [ Алексеева, 2005, с. 26].
Несмотря на указанные сложности, важным является сам подход к советской системе как многофакторному явлению. Историки, занимающиеся советским периодом, в основном изучают те явления, которые можно назвать негативными: репрессии, принуждение, войны, неэффективность экономики и т.д. Практически нет работ, посвященных позитивным аспектам советской действительности. В исследованиях, связанных с темами спорта, радости, любви и т.п., акцент делается на использовании советской властью этих явлений в своих интересах. Такой подход позволяет подчеркнуть неизбежность крушения «коммунистического колосса». Противоположностью указанным работам являются различного рода апологетические исследования, которые призваны защитить СССР от лжи и обмана и поведать читателю «подлинную» историю. В этом контексте Советский Союз превращается то ли в священную корову, то ли в покойника, о котором или хорошо, или ничего. И та и другая точка зрения мне представляется излишне тенденциозной. В СССР, как и в других странах, были свои отрицательные и свои положительные стороны, и наличие одних не нивелирует значения других. Советский строй не только использовал насилие и принуждение в своей практике, но и пытался найти способы договориться с массами, в том числе используя механизмы их вовлечения в политический процесс. Это было одной из форм мобилизационной модели.
Список литературы Публичная политика как интерпретационная модель истории СССР
- Дзялошинский И. Гражданская коммуникация и публичная политика//Публичное пространство, гражданское общество и власть: опыт развития и взаимодействия. М., 2008.
- Kilpatrick G. D. Definitions of Public Policy and the Law [Электронный ресурс]. URL: http://www.musc.edu/vawprevention/policy/definition.shtml (дата обращения: 01.04.2013)
- Pal A. L. Public Policy Analysis: an Introduction. Toronto, 1992.
- Dunn W. Public Policy Analysis: An Introduction. New Jersey, 2007.
- Kraft E.M., Furlog S. R. Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives. Washington, 2009.
- Tikhomirov A. Trust, Distrust or Forced Trust? Emotional Bonds between People and State in Soviet Russia, unpublished paper, presented at the conference «Trust and Distrust in the Soviet Union»: School of Slavonic and East European Studies. University College London, 17-18 February 2012.
- Александров Д. А. Немецкие мандарины и уроки сравнительной истории//Рингер Ф. Закат немецких мандаринов: Академические сообщество в Германии, 1890-1933. М., 2008.
- Алексеева Т. А. «Публичное» и «частное»: Где границы «политического»?//Филос. науки. 2005. №3.
- Аналитические сообщества в публичной политике: глобальный феномен и российские практики. М., 2012.
- Беляева Н. Ю. Публичная политика и аналитические сообщества в глобальном мире//Аналитические сообщества в публичной политике: глобальный феномен и российские практики. М., 2012.
- Беляева Н. Ю. Развитие концепта публичной политики: внимание движущим силам и управляющим субъектам//Полис. 2011. № 3.
- Кулевин Э. Народный протест в хрущевскую эпоху: Девять рассказов о неповиновении в СССР. М., 2009.
- Кип Д., Литвин А. Эпоха Иосифа Сталина в России: Современная историография. М., 2009.
- Кумбс Д. Введение в концепцию публичной политики в контексте посткоммунистического транзита//Публичная политика: от теории к практике. СПб., 2008.
- Лейбович О. Л. В городе М: Очерки социальной повседневности советской провинции. М., 2008.
- Ленин В. И. Удержат ли большевики государственную власть?//Полн. собр. соч. Т. 34
- Макарычев А. С. Суверенитет, власть и политическая субъективность: две линии критической теории//Полит. экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2010. Т. 6, № 4.
- Меньковский В. И. История и историография: Советский Союз 1930-х годов в трудах англо-американских историков и политологов. Минск, 2007.
- Митрохин Н. А. Русская партия: Движение русских националистов в СССР 1953-1985. М., 2003.
- Нарский И. В. Конструирование мифа о Гражданской войне и особенности коллективного забывания на Урале в 1917-1922 гг.//Век памяти, память века: Опыт обращения с прошлым в XX столетия. Челябинск, 2004.
- Плампер Я. Алхимия власти. Культ Сталина в изобразительном искусстве. М., 2010.
- Публичная политика в современной России: субъекты и институты. М., 2006.
- Публичная политика: от теории к практике. СПб., 2008.
- Симонов В. К. Политический анализ: учеб. пособие. М., 2002.
- Сталин И.В. О проекте Конституции Союза ССР: докл. на Чрезвычайном VIII всесоюз. съезде Советов 25 ноября 1936 г.//Соч. М., 2007. Т. 14.
- Фокин А.А. «Коммунизм не за горами»: образы будущего у власти и населения СССР в 1950-1960-е годы. Челябинск, 2012.
- Хархордин О. Обличать и лицемерить: генеалогия российской личности. СПб.;М., 2002.
- Черных А. И. Власти и политика в эпоху медиадемократии. М., 2010.
- Шматко Н. Феномен публичной политики [Электронный ресурс]. URL: http://sociologos.net/textes/chmatko/politique_publique.htm (дата обращения: 01.04.2013).