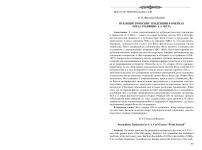Публицистические тенденции в очерках "Из-за границы" А. А. Фета
Автор: Фролова Нина Викторовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (61), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются публицистические тенденции в творчестве А. А. Фета - одного из самых больших поэтов XIX в. Интерес исследователей проявился к публицистике Фета только в последние два десятилетия. А ведь с середины 1850-х до середины 1880-х гг., если исключить переводы, публицистика станет для Фета фактически основным видом творчества. Работ, посвященных публицистике Фета, немного, и связаны они в основном с «деревенскими» очерками (1862-1864). Целостной картины его публицистического творчества пока не существует. Впервые публицистические тенденции в творчестве А. Фета проявились в «Очерках из-за границы» (18561857). Автора статьи интересует, почему возникают публицистические тенденции в очерках, как они развиваются, в каких жанровых формах существуют и что влияет на их формирование и развитие. Несмотря на то, что очерки «Из-за границы» нарративны (а это свойственно всем прозаическим текстам Фета, включая его мемуаристику), в них поднимается одна из самых важных проблем XIX в. - проблема искусства: его содержания, источника вдохновения, роли художника и искусства в жизни общества, отношение самого Фета к искусству. Очерки Фета полемичны. Не соглашаясь с современниками, прежде всего с Белинским, Фет не боится декларировать свою позицию представителя и сторонника «чистого искусства», подкрепляя ее экскурсом в различные исторические эпохи. Его интересует и бытовой, обыденный мир в самых различных проявлениях. Чаще всего это та «правда факта», которой он будет придерживаться и в дальнейшем в публицистике и которая первоначально реализовалась в русской литературе XIX в. в жанре физиологического очерка. Очеркам «Из-за границы» присущ субъективизм повествования, их текст экспрессивен, часто ироничен. В статье затронуты также взаимоотношения Фета с журналом «Современник», где были опубликованы очерки Фета «Из-за границы».
Фет, очерки «из-за границы», жанр литературного путешествия, физиологический очерк, публицистические тенденции, «чистое искусство», журнал «современник»
Короткий адрес: https://sciup.org/149140465
IDR: 149140465 | DOI: 10.54770/20729316-2022-2-85
Текст научной статьи Публицистические тенденции в очерках "Из-за границы" А. А. Фета
Начиная с 1840-х гг. XIX в. в России наблюдается активное развитие публицистики. Она сделалась неизбежным элементом и художественной литературы, и литературной критики. Публицистическую активность проявили М. П. Погодин, С. П. Шевырев, Н. И. Греч. Ярким образцом публицистики являются «Выбранные места из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя. Во главе этого процесса стоял В. Г. Белинский, который стал первым в России теоретиком и публицистом в области литературы и искусства.
Основными проблемами, волнующими современников, были проблема крепостного права, проблема политической власти, роль и значение искусства в жизни общества. Именно эта последняя проблема стала предметом полемики между представителями демократической критики и сторонниками «чистого искусства».
«Чистое искусство», или «искусство для искусства», — условное название ряда эстетических предпочтений и концепций, общий внешний признак которых — утверждение самоценности художественного творчества, независимости искусства от политики, общественных требований, воспитательных задач». Таково определение, данное в «Литературной энциклопедии» [Сквозников 2001, 320] Возникшая в 1840-е гг. как своеобразная оппозиция, когда художник в своих произведениях отказывался поддерживать власть и мечтал о духовной свободе, с середины 1850-х гг. теория «чистого искусства» вступила в явные противоречия с демократическими идеалами и воспринималась уже как вызов демократическому направлению в литературе. Это противоречие вылилось в полемику, отразившуюся на страницах «толстых» журналов.
В центре полемики находился журнал «Современник», занимающий

демократическую позицию. Однако в самом «Современнике» были разногласия. Часть редакции, в частности А. В. Дружинин и В. П. Боткин, были сторонниками «теории чистого искусства», что противоречило демократической направленности журнала. С начала 1854 г. в «Современник» в качестве рецензента и критика был приглашен Н. Г. Чернышевский, через некоторое время возглавивший литературный отдел вместо Дружинина. Он начал публиковать «Очерки гоголевского периода русской литературы» (1855-1856), в которых проявилась ярко выраженная публицистическая составляющая, ставшая впоследствии главной в его творчестве. Публикация «Очерков...» еще больше укрепила демократическую позицию журнала.
Продолжая традиции Белинского, Чернышевский в диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» (1854), «Очерках гоголевского периода...» и других произведениях активно выступал принципиальным противником концепции «чистого искусства». Все это не могло не отразиться на содержании журнала. Многие исследователи отмечают, что в произведениях, публикуемых в «Современнике», «укрепились интерес к подробной описательности предметов и явлений и максимально реалистическое изображение повседневной жизни [Черемисинова 2008, 24]. Одним из ведущих жанров стал физиологический очерк, наряду с которым появляются промежуточные «полубеллетристические» жанры. К ним относятся и путевые очерки, и жанр «литературного путешествия».
Традицию «литературных путешествий» в России начинают «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина. К моменту их появления в России в «Московском журнале» (1791-1792) в этом жанре на Западе сформировались два основных типа подобных произведений: так называемый «стерновский», получивший название от книги Л. Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии», в которой Стерн пишет о любовных встречах во время путешествия, описывает свои чувства и эмоции; и второй, сложившийся под влиянием «Писем об Италии в 1785 году» Шарля Дюпати. В произведении Дюпати были не только сценки, рассуждения, лирические отступления, но и географические и этнографические сведения. На русском языке отрывок из книги Ш. Дюпати появился впервые в 1796 г. на страницах литературного журнала сентиментального направления «Муза» (1796). Книга Дюпати вызвала широкий общественный интерес, что побудило издателя журнала И. И. Мартынова (1771-1833) опубликовать полный ее перевод в 1800-1801 гг.
Еще одним популярным изданием была книга «Новое землеописание» английского писателя А. Ф. Бюшинга (т. 1-2, 1754-1759), посвященная странам Европы, Азии, в том числе и России, и опубликованная в русском переводе в 1760-е гг. Книга носила по преимуществу статистический характер, отличалась «сухим» стилем, однако в качестве фактического источника пользовалась у современников популярностью.
Карамзину был близок Лоренс Стерн. Именно за личными переживаниями и впечатлениями, по его мнению, люди отправляются в путешествие.
«Пестрота, неровность в слоге есть следствие различных предметов, которые действовали на душу молодого, неопытного русского путешественника: он сказывал друзьям своим, что ему приключалось, что он видел, слышал, чувствовал, думал (выделено автором. — Н.Ф.\ —и описывал свои впечатления не на досуге, не в тишине кабинета, а где и как случалось, дорогою, на лоскутках, карандашом. А кто в описании путешествий ищет одних статистических и географических сведений, тому, вместо сих “Писем”, советую читать бишингову “Географию”», — писал Карамзин в предисловии к «Письмам русского путешественника» [Карамзин 1998, 6]. Так была проведена четкая граница между литературным и научным жанром «путешествия».
Уже в первой трети XIX в., когда повысился интерес к географическим открытиям и в связи с этим к путешествиям, в развитии жанра «литературного путешествия» наметилось сближение с эпическими и публицистическими жанрами, что отразилось как на стиле, постепенно утратившем черты карамзинской повествовательной манеры, так и на позиции автора-героя путешествия. Чувствительность начала заменяться иронией. Автор все чаще вступал в диалог с читателем, зачастую этот диалог велся в форме спора. В качестве примера можно привести «Письма русского офицера» Ф. Н. Глинки, «Путешествие в Арзрум» А. С. Пушкина, произведения В. К. Кюхельбекера.
В числе интересных образцов литературного очерка-путешествия можно отметить «Письма с дороги по Германии, Швейцарии и Италии» (1843) Н.П.Греча, «Хронику русского» (1827-1845) А.И.Тургенева, «Парижские письма» (1847) П. В. Анненкова; «Письма об Испании» (1847-1849) В. И. Боткина и, наконец, письма «Из-за границы» (1856-1857) А. А. Фета.
Путешествие за границу в 1856-1857 гг. являлось для Фета по сути первым. Правда, он посетил Германию в 1844 г, когда умерла его мать и ему необходимо было оформить ряд документов в связи с наследственными делами, но поездка была очень короткой, сугубо деловой и, конечно, особых впечатлений не оставила. На путешествие 1856-1857 гг. его подвигло несколько причин. Ухудшилось состояние здоровья: стало портиться зрение, появилась одышка из-за начавшейся болезни сердца, от которой Фет впоследствии умер. В Париже он намеревался встретиться с Марией Петровной Боткиной — своей нареченной невестой, находившейся в это время за границей. Особую тревогу вызывали у Фета письма младшей сестры Надежды, лечившейся в Германии. Ее письма дышали откровенным неблагополучием. Впоследствии выяснилось, что Надежда пережила несчастливый роман, а это привело к всплеску наследственной душевной болезни.
По мнению некоторых исследователей [Абрамовская 2007, 393], Н. А. Некрасов—издатель журнала «Современник», тоже собиравшийся за границу вслед за Фетом, — обратился к поэту с просьбой написать для «Современника» ряд очерков. Общественный интерес к такого рода путевым заметкам или «письмам из-за границы» был в середине 1850-х гг. достаточно велик, и их охот-

но публиковали. Письма «Из-за границы», рассказывающие о поездке Фета по Германии и Франции, напечатаны в журнале «Современник» за 1856 г. (№ 2) и 1857 г. (№ 2, № 8).
Фет посетил Германию, Францию и Италию в период, наступивший после революционных событий конца 1840-х гг. и поражения России в Крымской войне (1853-1856), принесшего ей огромные человеческие и репутационные потери. В России нарастал кризис, тогда как в Европе наступило оживление во всех областях жизни. В 1855 г. в Париже открылась Всемирная выставка, на которой демонстрировались технические достижения Франции. В то же время в странах Германского союза, распавшегося во время революции 1848-1849 гг. и восстановленного в 1850 г, наблюдался мощный промышленный рост, приведший в 1860-х гг. к объединению вокруг Пруссии. Однако все эти события отражения в письмах «Из-за границы» не нашли.
Больше всего Фета интересовали его собственные мысли и чувства, и руководствовался он в творчестве всегда только собственными побуждениями. Лучшее подтверждение тому — письмо Фета от 17 января 1858 г. к другу И. П. Борисову: «Сегодня еду к Каткову отдавать ему стихи. Он вчера напирал на меня, чтобы я написал что-либо о мужике (выделено автором. — Н.Ф.\ Но я отвечал, что не умею управлять вдохновением» [Черемисинова 2008, 24].
Очерки «Из-за границы» писались в процессе путешествия, без предварительного плана, по горячим следам, «не на досуге, не в тишине кабинета, а где и как случалось, дорогою, на лоскутках, карандашом» [Карамзин 1998, 6]
Фет не стремился бежать от жизни, замкнуться в себе. Более того, он не боялся публично противостоять общепризнанным литературным авторитетам, высказываясь достаточно определенно по важным для него вопросам, в частности, по вопросам литературным. Для Фета характерно не «декларирование» той или иной оценки происходящего и увиденного, а фиксация факта и передача личных впечатлений и размышлений по интересующему поводу. Заметим, он не проходит мимо актуальных проблем, но обращается к ним в лишь связи с описываемыми событиями, ненавязчиво, но четко излагая свою позицию. Таким образом, в очерках «Из-за границы» формируется событийный публицистический текст, определяемый М. М. Бахтиным как «публицистический дискурс» [Бахтин 2000, 10].
Существует огромное количество определений публицистики, но все исследователи сходятся в наличии ряда конкретных особенностей этого вида творчества (курсив наш. — Н.Ф.\ Мы придерживаемся в данном случае точки зрения Е. П. Прохорова, который считает, что публицистика— это особый вид творчества [см.: Прохоров 1984, 62].
Для публицистики характерны словесно-экспрессивные способы передачи информации, «дихотомический текст», построенный по принципу «обыденная речь — публичный текст», что определяет две ипостаси автора: социальную и частную. Затем это — «анализ, прогнозирование, оценка актуальных социальных проблем, сосредоточенность на социальной жизни общества, которая невозможна без людей, поэтому не случайно ее интересует личность как часть социума» [Солганик 2001, 76]. Традиционно в публицистическом произведении всегда отчетливо прослеживается позиция автора, его живой отклик на конкретные факты и события, явления и процессы социальной жизни. Главной целью публицистики является формирование общественного мнения по самым актуальным проблемам современности.
Однако каждый автор в силу собственной творческой индивидуальности создает свою манеру письма и свой способ подачи информации. Фет сразу заявляет, что его очерки — частные впечатления, а это указывает на субъективность изложения, где автор выступает как лицо частное. Его цель — рассказать читателям о том, что он видит, информировать их. Анализа в его произведении мало, только когда он крайне необходим. Автора, безусловно, «интересует личность как часть социума», отсюда и литературные портреты, например, пражского студента, немецкого почтового чиновника или парижской модистки, встреченных им во время путешествия.
Большая часть писем посвящена искусству. Давая последовательный обзор возникновения и развития различных эпох и стилей, Фет рисует картину исторического накопления идей, послуживших основой для теории «чистого искусства», последовательным представителем которого в поэзии он был. Часть писем, выражающая эстетические взгляды Фета, глубоко полемична, направлена против программы «натуральной школы», и, в основном, против теоретика этого направления Белинского, в свое время высказавшегося очень определенно в адрес поклонников «чистого искусства» [Белинский 1948, 766-846].
Очерки «Из-за границы» состоят из трех частей. Первую часть очерков Фет называет путевыми впечатлениями, во второй и в третьей появляется дополнительный подзаголовок—письма. В своих заграничных «письмах» Фет почти не указывает дат, поэтому установить время его пребывания в том или ином городе довольно сложно. В то же время сам текст заграничных очерков помогает уточнить маршрут и некоторые даты местопребывания Фета.
«Письмо» первое представляет собой единый текст и посвящено Германии, в частности, Берлину. Главное место в нем занимает описание Нового музея и его коллекций. Начиная описание музея с первого этажа, Фет рассказывает о шести фресках, выполненных популярным художником Каульбахом (1805-1874). Четыре из них — «Битва гуннов», «Падение Вавилона», «Цветущий век Греции» и «Разрушение Иерусалима» — описаны Фетом достаточно подробно. Отдавая должное мастерству и трудолюбию живописца, Фет отмечает некоторую холодность и назидательность, дидактизм его живописи: «Я останавливаюсь на этой подробности, только вполне убежденный, что дидактизм и преднамеренность сильно вредят свободному творчеству» [Фет 2007, 17]. С этого момента начинается главная тема всех писем — искусство.
Рассказывая о так называемом Египетском музее, расположенном также на первом этаже, Фет восторгается богатством экспозиции и полнотой египетских коллекций, но сердце его отдано античному искусству Вот как он пишет об этом: «.. .скорее во второй этаж: там древняя Греция. Там сухой жезл символа прозяб и распустился живыми, неувядающими цветами мифа. Там нет сентенций. Там один закон, одно убеждение, одно слово красота» (выделено автором. — Н.Ф.) [Фет 2007, 20].
Посетив после Берлина Дрезден и, конечно же, дрезденскую галерею, где наибольшее восхищение вызвало у него творчество Рафаэля, Фет писал: «Бог сподобил меня быть соучастником видения Рафаэля. Я лицом к лицу видел тайну, которой не постигал, не постигаю и, к величайшему счастию, никогда не постигну. Пусть эта святая тайна вечно сияет, если не перед моими глазами, по крайней мере, в моем воспоминании...» [Фет 2007, 33].
Заслуга в рецепции творчества Рафаэля в России принадлежит В. А. Жуковскому, который посетил Италию трижды и вывез оттуда много впечатлений. Ими он щедро делился с друзьями и описал их в дневниках [Янушкевич 1999, 172-198]. Образ Рафаэля и его бессмертное творение многократно упоминались в русской лирике в стихотворениях М. Ю. Лермонтова («Поэт», 1828), Е. А. Баратынского («Княгине 3. А. Волконской», 1829) и др. Для Фета встреча с творчеством Рафаэля стала истинным потрясением, он будет неоднократно обращаться к загадочной фигуре гениального художника и его творениям.
После Дрездена Фет отправился в Карлсбад для лечения. Он подробно описывает жизнь небольшого курортного городка с непременными прогулками по одним и тем же маршрутам для отдыхающих, с незатейливыми воскресными развлечениями в виде концертов заезжих музыкантов и вечерних представлений в местном театрике: «Чтобы представить полную программу дня, приведу перечень карлсбадских удовольствий. Плохой театр, панорама Варны, Одессы, Севастополя и прочее, черный слон, ученый пудель, стяжавший лавры во всех частях света, поющие тирольцы, стрельба в цель из машинных штуцеров, два раза в неделю концерт Лабицкого на Старой долине под каштанами и в субботу бал в зале минеральных вод» [Фет 2007, 44]. Заканчивается первое письмо четверостишьем из Гейне и жалобой на то, что «погода прекрасная, окрестности живописны, жизнь дешева до невероятия, а между тем скучно» [Фет 2007, 46].
Если сравнить описания Дрездена и Карлсбада, то мы увидим, что, несмотря на совершенно разные типы жизненного уклада каждого города, эти описания сходны и приближаются по форме к жанру физиологического очерка, в котором автор обычно описывает мельчайшие детали изображаемого, стараясь выделить общие, типические черты.
Второе письмо представляет собой структурированный текст, состоящий из трех частей-главок, каждая из которых разбита на отдельные эпизоды. Первая главка посвящена поездке от Карлсбада до Киля и наполнена впечатлениями (курсив наш. — Н.Ф.) Фета о Германии.
Путешествие как некий переход от обыденной жизни к незнакомому не только фокусирует внимание путешественника на новом, но и возвращает его мысли к знакомому Почти всегда путешественник сравнивает новые впечатления от увиденного со сложившимися впечатлениями о родном. Фет подчеркивает это сам: «Я назвал свои летучие заметки впечатлениями и ни за что не откажусь от такого названия <.. .> я думаю, что общее должно быть верно» [Фет 2007, 52]. Его слова указывают на стремление показать прежде всего общее (курсив наш. — Н.Ф.\ общий жизненный уклад немцев, их идеалы. Здесь мы видим еще одну проблему, которая также волнует автора. Это проблема «они и мы», Россия и Запад. Как и многие путешественники, Фет не может не сравнивать жизнь в России с жизнью Европы: «Говорить о превосходстве одного народа как народа над другим — вздор. Люди везде люди. Но, вместе с тем <.. .> растолкуйте, пожалуйста, отчего, при одинаковом образовании, один народ весел и живет изо дня в день насущными радостями, иногда самыми детскими, другой носит печать невыносимой апатии и скуки?» [Фет 2007, 56]. Русские уже давно, со времен Петра I приобщились к европейской культуре. Однако, как тонко подметил Фет, европейцы все еще не стремятся принять Россию в свое сообщество.
Вторая главка начинается с описания пограничного Страсбурга, где внимание Фета привлекают французские солдаты — «оригинальный тип, который довольно трудно воспроизвести». Здесь и кирпичные шаровары, и чудный взгляд старых солдат, и некий беспорядок в построении, что сразу отмечает острый глаз Фета-офицера. Чем не физиологический очерк с его вниманием к подробностям и обобщениям! Не остается Фет равнодушен и к средневековому собору, восхищаясь его скульптурными украшениями работы дочери архитектора Эрвина фон Штауфенбаха, создавшего проект собора. И вновь звучит гимн божественному вдохновению художника: «Нельзя сказать: учитесь, художники, а можно и должно сказать: будьте чисты духом и веруйте во вдохновение, тогда ваши камни задышат и заговорят» [Фет 2007, 59].
Описание пути от Страсбурга до Парижа также насыщено бытовыми деталями: крестьянин, «погоняющий по-русски» лошадей на пашне, французская таможня, поездка в фиакре по тесным улицам, — эти картины наполнены жизнью. Фету интересно и удивительно все: и огромные «полоскательные» чашки без ручек, в которых подают кофе, и кучер наемного экипажа, читающий на козлах журнал, и двойные ряды бесконечных магазинов — все это дышит и живет в собственном ритме.
После изображения подробностей парижской жизни автор вновь переходит к главной волнующей его теме — искусству. Самое большое место здесь занимают описание Лувра и впечатления и размышления Фета об искусстве. Он вновь вспоминает о божественной красоте произведений Рафаэля: «Дело в том, что в художественном мире есть два рода идеалов. Одни — идеалы явлений будничных, так сказать возможных, другие — явлений невозможных, которых отчизна непостижимая бездна человеческого
духа. Первые можно назвать типами, на которых отразились все стороны предмета, хорошие и худые; во вторых нет дурных сторон, в них все — совершенство» [Фет 2007, 67]. В этих словах видна перекличка с работами немецкого романтика Вильгельма Генриха Вакенродера (1773-1798), оказавшего большое влияние на Фета. В 1826 г. произведения Вакенродера были переведены на русский язык под названием «Об искусстве и художниках. Размышления отшельника, любителя изящного».
В «Видении Рафаэля» [Вакенродер 1826, 22-30] Вакенродер утверждал, что художник создавал свои гениальные полотна под воздействием божественного вдохновения, в состоянии экстаза, откровения. Позиция Вакенродера была очень близка Фету, именно так он сам ощущал приход вдохновенья. Моменты творческого вдохновенья как некоего экстаза описаны им много позднее в мемуарах: «.. .при этом не могу не вспомнить о русских стихотворных потугах, иногда овладевавших мною при совершенно неблагоприятных условиях. В тихие минуты полной беззаботности я как будто чувствовал подводное вращение цветочных спиралей, стремящихся вынести цветок на поверхность <...> Я чертил на своей аспидной доске какие-то стихи и снова стирал их <...>» [Фет 1983, 121]. При этом Фет не отрицает бытовых подробностей в искусстве и замечает, соглашаясь с Белинским, что «искусство есть высшая, нелицемерная правда, беспристрастнейший суд, перед лицом которого нет предметов грязных или низких» [Фет 2007, 47].
В третьем письме Фет охватывает большой круг вопросов, не только связанных с искусством прошлого, но и затрагивающих современные культурные реалии: архитектуру, литературу, театральную жизнь Франции. Как и второе, это письмо также представляет собой структурированный текст, состоящий из пяти главок-частей. Первая и вторая главки посвящены архитектуре и различным достопримечательностям Парижа. В третьей и четвертой главках представлен французский театр, его зрители, репертуар, актеры, пятая рассказывает о поездке в провинцию, в Версаль, дорожных встречах и любопытных типах, встреченных в Париже — французских тряпичниках.
Тематика очерков «Из-за границы» разнообразна, даже пестра. Это объясняет и жанровую неоднородность очерков Фета. Так, в отрывке, посвященном тряпичникам, он вновь обращается к жанру физиологического очерка. Здесь преобладает портрет, основанный на подробном перечислении деталей лица, фигуры, одежды, жестов и других примет внешности, характеризующих представителя определенной социальной общности. В тексте воспроизводятся случайные диалоги, есть страницы, написанные в стиле нравоописательного очерка, и «сиюминутные записки» или «заметки», в которых фиксируются путевые впечатления автора. Нельзя не согласиться с Л. И. Черемисиновой, что «разнородность вводимого в повествовательную структуру материала потребовала сочетания разных способов повествования. Повышенная экспрессивность авторской речи имитирует живую разговорную интонацию, усиливает воздействие на чи- тателя» [Черемисинова 2008, 41].
Третье письмо заканчивается описанием путешествия на корабле в Италию, в Рим.
Четвертое, и последнее, письмо Фета, где он рассказывал об итальянских впечатлениях, не было опубликовано в «Современнике», хотя Фет писал, что отправлял рукопись в редакцию. В своих мемуарах он еще раз упоминает, что «<...> в “Современнике” были напечатаны три статьи мои под заглавием: “Из-заграницы. Путевые впечатления” <...> Последняя статья кончается выездом из Марселя, а между тем я очень хорошо помню, с каким увлечением описывал я великолепную ночь на Средиземном море, а затем все впечатления Генуи, Ливорно, Пизы, Чиветта-Векии, Рима и Неаполя. Но, вероятно, все эти путевые впечатления не были напечатаны в “Современнике”, куда были отправлены и где, вероятно, в редакции пропали”» [Фет 1983, 169]. Текст четвертого письма и сейчас не известен.
Фет вошел в круг «Современника» и начал активно печататься в журнале с 1854 г. Со страниц «Современника» в редакционных статьях его поэзия декларировалась как «что-то сильное и свежее, чисто поэтическое», его талант назывался «в высшей степени самобытным», а сам Фет—«певцом неуловимо-поэтических движений сердца человеческого и тончайших прелестей природы» [Дерябина 2004, 41]. Тем не менее «своим» Фет в «Современнике» не был. Об этом свидетельствуют и публикации стихов «Нового поэта», под маской которого Панаев писал иронические пародии на стихи Фета. Первые две пародии написаны в 1850 г, последняя — третья появилась в 1854 г, когда поэт был уже автором «Современника». Мы не рассматриваем сейчас эти пародии, однако нельзя не согласиться с Е. П. Дерябиной, что «они <.. .> открыли дорогу многочисленным последующим пародиям на Фета 1860-х гг.» [Дерябина 2004, 39].
С отказа публикации четвертого письма — об Италии — началось постепенное «расставание» «Современника» с Фетом и, по существу, «отлучение» его от литературного процесса. Панаев, замещавший уехавшего за границу Некрасова, обладал острым журналистским чутьем, быстро улавливал настроение публики и тонко чувствовал текущую литературную ситуацию. Уже в 1856 г. он предугадал растущий интерес читателей к проблемам сугубо социальным и острополитическим, что и отразилось на его отношении к очеркам «Из-за границы» Фета.
1 июля 1856 г. Панаев писал И. С. Тургеневу, о том, что «мы живем в такую минуту, когда чистое искусство, Г art pour Fart, на русскую публику не производит никакого действия, это факт несомненный» [Дерябина 2004, 40]. В письме к Боткину от 28 июня 1857 г. Панаев прямо объяснил причины отказа от публикации четвертого «письма»: «Вообще я должен тебе сказать, что по всем моим наблюдениям, которые подтверждаются миллионами фактов, — русская публика требует теперь чтения более серьезного, а в беллетристике рассказов в роде Щедрина <...> Теперь уже нельзя угощать публику безнаказанно между прочим письмами Фета, и я не печатаю их» [Переписка В. П. Боткина с И. И. Панаевым]. Редакция
журнала не завершила публикацию писем «Из-за границы».
В очерках «Из-за границы» Фет достаточно явно (курсив наш. — Н.Ф.) декларировал свое отношение к вопросам искусства. И оно сильно расходилось с позицией «Современника», по заданию которого очерки писались, а это не устраивало издателей журнала.
Заграничное путешествие 1856-1857 гг. стало для Фета важной вехой и, по сути, выбором нового жизненного и творческого пути. Об этом свидетельствуют не только стихи, которые он посылал в письмах к друзьям. Не случайно и свадьба с Марией Петровной Боткиной в августе следующего, 1857 г, шафером на которой был Тургенев, состоялась в Париже. Уже тогда у Фета зрело намерение выйти в отставку и посвятить себя полностью литературной деятельности. Однако жизнь внесла свои коррективы.
Очерки «Из-за границы» — первое непоэтическое произведение (курсив наш. — Н.Ф.) Фета. Они стали первым серьезным опытом поэта в публицистическом роде, к которому он будет не раз обращаться в дальнейшей творческой деятельности. Отмеченные своеобразным «фетовским» взглядом на мир («трогательно-простодушным», по выражению Тургенева), очерки «Из-за границы» заметно отличались от всего, созданного в русской литературе ранее в жанре путевых очерков и писем и стали началом публицистического творчества Фета. В его очерках есть все черты, которые присущи именно публицистическому очерку, где автор выступает под своим именем и выражает свои, субъективные, мысли, чувства и оценки. Между ним и читателем нет посредника, часто Фет напрямую обращается к читателю. Но главное — это приоритет «правды» и «факта», который оказался в дальнейшем жанрообразующим принципом в «деревенских» очерках — цикле статей, опубликованных в «Русском вестнике» (1862-1864) и названном по желанию Каткова «Из деревни». Этот цикл и публицистические статьи Фета, написанные в шестидесятые годы, преемственно связаны с его путевыми очерками и, в свою очередь, сохранили жанровые признаки очерковой литературы: наличие документальной основы, точно воспроизводящей реальные факты и события, связь эпизодов при помощи внешней, причинно-временной последовательности, подробные описания изображаемого предмета или явления.
Все эти особенности впервые полно проявились в очерках «Из-за границы».
Список литературы Публицистические тенденции в очерках "Из-за границы" А. А. Фета
- Абрамовская И. С. Очерки Фета и традиция «литературного путешествия» // Фет А. А. Сочинения и письма: в 20 т. Т. 4. СПб.: Фолио-Пресс-Атон, 2007. С. 392-397.
- Бахтин М. М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук. СПб.: Азбука, 2000. 332 с.
- Белинский В. Г. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 2. М.: Гослитиздат, 1948. 928 с.
- Вакенродер В. Г. Об искусстве и художниках. Размышления отшельника, любителя изящного, изд. Л. Тикком. М.: Тип. С. Селивановский, 1826. 126 с.
- Дерябина Е. П. Фет и Панаев // Вестник Новгородского государственного университета. 2004. № 29. С. 38-43.
- Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л.: Наука. 1998. 726 с.
- Переписка В. П. Боткина с И. И. Панаевым / Публикация М. А. Цявлов-ского и Н. А. Чебышевой URL: http://az.lib.ru/b/botkin_w_p/text_1858_perepiska_ s_panaevym.shtml (дата обращения: 2.02.2021).
- Прохоров Е. П. Искусство публицистики. М.: Советский писатель. 1984. 359 с.
- Сквозников В. Д. «Искусство для искусства» // Литературная энциклопедия терминов и понятий / гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин. М.: Интелвак, 2001. С. 318-320.
- Солганик Г. Я. Автор как стилеобразующая категория публицистического текста // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. 2001. № 3. С. 74-83.
- Фет А. Воспоминания. М.: Правда, 1983. 396 с.
- Фет А. А. Сочинения и письма: в 20 т. Т. 4. СПб.: Фолио-Пресс-Атон, 2007. 555 с.
- Черемисинова Л. И. «Путевые впечатления» А. А. Фета в контексте его прозы // Вестник Новогородского государственного университета. 2008. № 29. С. 38-43.
- Янушкевич А. С. Итальянские впечатления и встречи В. А. Жуковского: по материалам дневников, архива и писем поэта // Русско-итальянский архив. Т. 2. Салерно, 1999. С. 172-198.