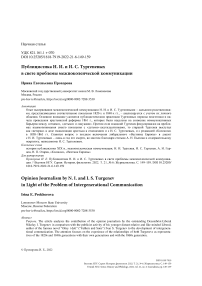Публицистика Н. И. и И. С. Тургеневых в свете проблемы межпоколенческой коммуникации
Автор: Прохорова И. Е.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: История публицистики
Статья в выпуске: 6 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
Опыт выстраивания межпоколенческой коммуникации Н. И. и И. С. Тургеневыми - дальними родственниками, представляющими соответственно поколения 1820-х и 1840-х гг., - анализируется с учетом их личного общения. Основное внимание уделяется публицистическим практикам Тургеневых периода подготовки и начала проведения крестьянской реформы 1861 г., которые были нацелены на снижение коммуникативных барьеров между «отцами», «детьми» и «внуками». Притом если младший Тургенев фокусировался на проблемах взаимопонимания своего поколения с «детьми»-шестидесятниками, то старший Тургенев выступал как «ветеран» в деле эмансипации крестьян в отношениях и с И. С. Тургеневым, и с редакцией «Колокола» в 1858-1863 гг. Ставится вопрос о позднем включении либерального «Вестника Европы» в диалог с Н. И. Тургеневым - лишь в год его смерти, во многом благодаря статьям А. Н. Пыпина и содержательному некрологу, написанному И. С. Тургеневым.
История публицистики xix в, межпоколенческая коммуникация, н. и. тургенев, и. с. тургенев, а. и. герцен, н. п. огарев, колокол, вестник европы
Короткий адрес: https://sciup.org/147238026
IDR: 147238026 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.25205/1818-7919-2022-21-6-149-159
Текст научной статьи Публицистика Н. И. и И. С. Тургеневых в свете проблемы межпоколенческой коммуникации
Prokhorova I. E. Opinion Journalism by N. I. and I. S. Turgenev in Light of the Problem of Intergenerational Communication. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2022, vol. 21, no. 6: Journalism, pp. 149–159. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2022-21-6-149-159
Проблемы межпоколенческой коммуникации в обществе, отражающиеся в публицистике, в каких бы форматах и на каких бы носителях ни появлялись публицистические произведения, сегодня остаются весьма острыми, если не возрастают. С одной стороны, в связи с запросом прежде всего старших когорт на сохранение и трансляцию «традиционных» ценностей, а с другой – в связи с неугасающим интересом молодых когорт к разного рода модификациям «нигилистского» дискурса [Отцы и дети…, 2005]. В этом контексте бесспорна актуальность изучения исторического опыта русской словесности XIX в., в которой сложилась тенденция опознавать «социальные сдвиги и культурную динамику» в поколенческих и возрастных категориях [Дубин, 1995, c. 14].
Такого рода рефлексией среди русских писателей особенно прославился И. С. Тургенев, который еще в середине 1850-х гг. планировал написать роман «Два поколения» (не завершен), а сформулировал проблему «отцов и детей» в заголовке изданного в 1862 г. романа, вызвавшего небывалый общественный резонанс. Тема взаимоотношений поколений развивалась автором в позднейшем творчестве, включая мемуарно-публицистические очерки 1868– 1869 гг. и открытое письмо редактору «Вестника Европы» в 1879 г. Бесспорно, для самого И. С. Тургенева вопросы межпоколенческой коммуникации не ограничивались отношениями с «младшими». И здесь внимание историков русской литературы и журналистики не могут не привлечь начавшиеся в 1845 г. и активизировавшиеся в 1858 г. его контакты со старшим дальним родственником и во многом единомышленником-либералом Н. И. Тургеневым, выдающимся представителем поколения 1820-х гг., проявившим себя и в сфере политической публицистики. Вместе с тем опыт старшего Тургенева, на протяжении своей долгой жизни сотрудничавшего с представителями разных возрастных генераций, самоценен, особенно вполне конструктивно развивавшийся в 1858–1863 гг. его полемический диалог с «лондонскими пропагандистами» в «Колоколе». Всё это определяет перспективность рассмотрения взаимоотношений Н. И. и И. С. Тургеневых в контексте взаимодействия каждого из них, принадлежавших соответственно к поколениям 1820-х и 1840-х гг., с другими представителями данных генераций и, конечно, поколения 1860-х гг.
Разумеется, многие из обозначенных вопросов уже затрагивались в научной литературе, посвященной Н. И. и И. С. Тургеневым. Среди обобщающих работ о творчестве И. С. Тургенева, выводы которых учитывались в нашем исследовании, стоит выделить монографии Н. Н. Мостовской [1983] и Н. П. Генераловой [2003]. О результатах изучения жизни и творческой деятельности Н. И. Тургенева помогает судить их обзор, пусть беглый и потому неполный [Нарежный, Пятикова, 2016]. Однако сколько-нибудь целостно публицистика Тургеневых в свете проблем межпоколенческой коммуникации до сих пор не изучалась, что обусловливает новизну нашего исследования. Оно опирается на методы культурно-исторического и сравнительно-исторического анализа литературного и биографического материала, на социокультурные подходы при изучении авторских стратегий налаживания диалога меж- ду разными возрастными когортами. Для решения поставленной задачи к анализу привлекаются прежде всего публицистические произведения обоих Тургеневых периода подготовки и проведения крестьянской реформы 1861 г.
Своего рода триггером масштабного осмысления перспектив и / или тупиков межпоколенческой коммуникации в российском обществе и, соответственно, в публицистике тогда стал роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» (1862). Показателен ответ автора на жесткую и продолжительную печатную и эпистолярную полемику вокруг его произведения – опубликованный в 1869 г. мемуарно-публицистический очерк «По поводу “Отцов и детей”». Он появился уже после пережитого писателем в 1863 г. кризиса (вызванного, правда, не только обвинениями сторонников «отцов» и «детей» в его адрес), более того – после издания в 1867 г. романа «Дым», усилившего антитургеневские настроения среди читателей. Публицист дистанцировался от любой из изображенных им возрастных когорт, настаивая на принципе авторской объективности. Притом проблема идейной и ценностной немонолитности поколений, которая предопределяет затрудненность, даже невозможность конструктивной внутрипоколенческой коммуникации и одновременно перспективность контактов различных групп среди «старших» и «младших», публицистом не оговаривалась.
Зато емкую разработку в очерке «По поводу “Отцов и детей”» получил вопрос о смене поколений в самой литературе. С одной стороны, «новые времена» требуют «новых людей», и «литературным ветеранам», как писал Тургенев, «подать в отставку» лучше «вовремя». С другой стороны, в собственном «прощальном» послании к литературной «молодежи», взяв на себя коммуникативную роль ее «старого друга» (Тургенев, 1983, c. 93), публицист сформулировал требования к мыслящим и пишущим людям любой генерации. Главное для всех – «полная свобода воззрений и понятий», даваемая «истинным знанием» (Тургенев, 1983, c. 93–94) в постоянной борьбе со всякого рода предубеждениями по ходу развития мировой цивилизации. Такие признания характеризовали Тургенева как сторонника классического либерализма с его идеалами независимости не только от диктата власти, но и от диктата разного рода идейно-ценностных установок, претендующих на исключительное доминирование в общественном мнении.
Судя и по произведениям Тургенева, и по его практикам чиновника, общественного деятеля, помещика, подобным образом интерпретируемый либерализм привлекал его уже с 1840-х гг. Обращение же к литературной «молодежи» в 1869 г. стало программой дальнейшего творчества для самого писателя, включая его публицистические выступления на темы взаимоотношения поколений. Яркий пример такого выступления – открытое письмо Тургенева редактору «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу от 21 декабря 1879 г. (2 января 1880 г.) (Тургенев, 1968, c. 185–186). Недаром оно было отправлено в крупнейший печатный орган либералов, в редакционный кружок которого, кстати, входили и представители молодой генерации. Особенно же ценны в нем размышления автора об условиях снижения коммуникативных барьеров между большой частью «детей» и «отцов».
Это письмо в «Вестник Европы», как известно, было спровоцировано полемикой, которая развернулась вокруг предисловия Тургенева к автобиографическим очеркам «нигилиста» И. Я. Павловского в парижской газете «Le Temps» (Тургенев, 1982, c. 362–363). Автор предисловия, критически отозвавшись об убеждениях мемуариста, с сочувствием писал о нем как о претерпевшем за свои идеи долгое предварительное одиночное заключение в России и с сомнением – об оправданности такой меры «в глазах разумного законодательства» (Тургенев, 1982, c. 363). Отечественные консерваторы-«реаки» увидели в статье седовласого литератора «кувырканье» перед революционной молодежью (Тургенев, 1968, c. 184–185). Отвечая им, да и некоторым признанным российским проповедникам либерализма (см. об этом подробнее: [Мостовская, 2008, c. 234–235]), Тургенев умело апеллировал к историческому факту – устроенным ему московской и петербургской молодежью чествованиям весной 1879 г. Оценка этих событий была заострена полемистом: «не я шел к молодому поколению (здесь и далее в цитатах курсив автора. – И. П.), нерасположение которого я весьма филосо- фически переносил в течение пятнадцати лет (со времени появления “Отцов и детей”), <…> оно шло ко мне» (Тургенев, 1968, c. 185).
Тургенев, конечно, несколько преувеличивал результат, но знаменательна его поддержка самих практик последовательной толерантности «старших» и гибкости в поведении «младших», которые способствовали более конструктивным контактам между поколениями. Причем позиция публициста корреспондировала одновременно и с принципами либерализма, и с христианскими заповедями, прежде всего c наставлениями апостола Павла «детям» – «почитать» старших (Послание к Ефесянам 6:2–3) и «отцам» – «не раздражать» детей, «дабы они не унывали» (Послание к Колоссянам 3:21).
Разумеется, термин «поколение» давно осмысляется и в более конкретном историческом измерении – как общность ровесников, объединенных пережитым(и) ими значимым(и) собы-тием(ями) (война, восстание, революция), которое(ые) определило(и) особый «дух времени» и «историческую судьбу» данной генерации [Зенкин, 2005]. Так, Ю. Н. Тынянов, описывая поколение декабристов и А. С. Грибоедова в посвященном ему романе «Смерть Вазир-Мухтара», употребил связанное с 14 декабря 1825 г. словосочетание «люди 20-х годов» (Тынянов, 1959, c. 9).
К этой когорте принадлежал Н. И. Тургенев, один из «старших» русских либералов, еще в 1817 г. задававшийся вопросом об ответственности его поколения перед «внуками» за продвижение «к цели гражданского счастия» в борьбе с крепостническим «хамством» в России (Архив, 1921, c. 80–81; 14). Автор книги «Опыт теории налогов» (1818), утверждавшей принципы экономического либерализма, он сумел занять видное место как среди «либеральной бюрократии» эпохи Александра I (дослужился до действительного тайного советника), так и среди членов тайных политических обществ (хотя вопрос о его месте в Северном обществе по-прежнему представляется дискуссионным). C 1824 г. живя за границей, Н. И. Тургенев не стушевался при смене поколений. В 1847 г. политический «невозвращенец» (тоже один из первых в модерной отечественной истории) издал в Европе на французском и немецком языках капитальный публицистический труд «Россия и русские». В его трех томах не только было предано гласности видение Тургеневым «дела декабристов» и суда над ними, но и представлена аргументированная программа реформирования страны.
Высказывания Н. И. Тургенева на эти темы летом 1845 г. в Париже мог слышать и И. С. Тургенев. Именно тогда состоялось личное знакомство «однофамильцев», как поначалу думал Н. И. Тургенев, но в действительности дальних родственников [Тарасова, 1964, c. 276], что позволяет именовать их «старший» и «младший» Тургеневы. Идеи старшего Тургенева, очевидно, уже в то время начали влиять на корректировку взглядов младшего на перспективы борьбы с крепостничеством [Китаев, 2020, c. 44], которое для обоих оставалось главным «врагом». Причем если «аннибаловская клятва» И. С. Тургенева относилась к 1840-м гг. (Тургенев, 1983, с. 9), то старший Тургенев почти в том же возрасте, но на 20 лет ранее записал в Дневнике: «Я умер бы спокойно, если бы умер, зная, что нет ни одного крепостного человека в России» (Архив, 1921, с. 236). Вместе с тем решение младшего Тургенева «удалиться» за границу для сильнейшего нападения на крепостничество (Тургенев, 1983, с. 9) существенно отличалось от мучительно принимавшегося Н. И. Тургеневым решения о «невозвращении» на родину, состоявшегося после заочного осуждения его там по делу декабристов по первому разряду.
Вполне закономерно, что реформаторские планы Александра II вдохновили амнистированного им старшего Тургенева. Еще до 1861 г. он дважды посетил Россию для апробации своего обновленного антикрепостнического проекта (с безвозмездной передачей крестьянам 1/3 земли) в собственном небольшом имении. Однако публично представить свою программу преобразований на родине Тургеневу удалось лишь однажды, причем только в форме крат- кого газетного отчета о нововведениях в своем селе 1 и то, видимо, после вмешательства А. М. Горчакова [Вернадский, 1918].
Гораздо более весомых результатов в налаживании коммуникации Н. И. Тургенева с русскоязычной аудиторией помог добиться один из ярчайших людей 40-х гг. А. И. Герцен, организатор вольной русской печати за границей. В 1859 г. в издаваемом им сборнике «Голоса из России» Н. И. Тургенев поместил статью «Об устройстве удельных имений с целью уничтожения крепостного права». В 1858–1866 гг. он использовал площадку восьми «Русских заграничных сборников», правда, с перерывом в 1863–1865 гг. В 1858–1863 гг. Н. И. Тургенев выступал и в весьма влиятельном тогда «Колоколе». Прекращение его сотрудничества с «лондонскими пропагандистами», очевидно, было вызвано теми же причинами, что серьезный кризис в отношениях «старых товарищей» – Герцена и И. С. Тургенева, который обозначился в 1862 г. и резко усилился с началом Польского восстания в 1863 г. (см. об этом, например: [Тесля, Фолина, 2016, c. 73–85]). Учитывая идейную близость и постоянное общение Тургеневых в то время, нельзя исключить прямого влияния младшего Тургенева на ход контактов старшего с Герценом и Огаревым, хотя сам Н. И. Тургенев утверждал, что никогда до 1865 г. ни с кем не советовался относительно своих публикаций [Фетисов, 1926, с. 101].
В целом в свете проблемы межпоколенческой коммуникации уважительный и притом в большинстве случаев полемический диалог Н. И. Тургенева с издателями «Колокола» на его страницах представляется весьма содержательным, но до сих пор недооцененным. Так, в монографии о либеральной эмигрантской публицистике 1840–1860-х гг., оставшейся «в тени “Колокола”», Л. Ю. Гусман судил о позиции Н. И. Тургенева того времени, вообще не упоминая о его публикациях в лондонской газете [Гусман, 2004]. Между тем оно продолжалось почти 6 лет и началось основательным откликом Тургенева на программную статью «Еще об освобождении крестьян» Н. П. Огарева, призвавшего всех «порядочных людей» в России обсудить ее ключевые положения 2. Через два месяца газета поместила «Возражения на статью Колокола» Тургенева.
В отличие от Огарева его оппонент выступал анонимно. Подпись Н. И. Тургенева в «Колоколе» стояла только под статьей 1863 г., которая перекликалась с его давними официальными оправдательными записками по делу декабристов. И только эта публикация, заметим, фигурировала в посвященном младшим Тургеневым старшему некрологе в связи с сюжетом о взаимоотношениях последнего с «Колоколом» (Тургенев, 1983, c. 179). Вероятно, обоими была выбрана стратегия не предавать гласности истинный масштаб участия Н. И. Тургенева в запрещенном в России издании. По иным причинам крайне осторожно о его вкладе в «Колокол» писали и многие исследователи [Оксман, 1955], хотя Я. З. Черняк [1952] указывал на Н. И. Тургенева как оппонента Огарева в предреформенные годы. Научному описанию сотрудничества старшего Тургенева в «Колоколе» очень способствовали исследования Б. Холлингсуорта (Barry Hollingsworth) и В. М. Тарасовой [1963]. Тем не менее здесь требуются дальнейшие усилия, что подтверждается работами последних лет [Пискунова, 2016].
Стоит заметить, что в «Возражениях на статью Колокола» в 1858 г. Н. И. Тургенев обращался к Огареву исключительно «почтенный г-н Редактор» 3. Вероятно, так подчеркивалось, что они адресованы всей редакции «Колокола», хотя в трижды повторенном обращении можно услышать и нотку иронии. Представленный Огаревым проект крестьянской реформы, как и другие, тогда известные Тургеневу, критиковались как недостаточно учитывавшие интересы и дворянства и, особенно, «мужика», которому предстояло выкупать «свои человеческие права с клочком потом и кровью орошенной им и его предками земли» 4. Вместе с тем в тургеневской статье прозвучала поддержка предложения «Колокола» расширить начатую правительством дискуссию по проектам реформы.
Огарев отозвался на выступление Н. И. Тургенева лишь через 7 с лишним месяцев. Заявив, что выступает от имени «всего добросовестно образованного в России» без «различия партий», он настаивал на необходимости немедленного выкупа крестьянами всей обрабатываемой ими земли «посредством финансовой меры» 5. Аргументы Тургенева, включая экономические расчеты, были отвергнуты безоговорочно, но без сколько-нибудь серьезного анализа. Однако в заключение Огарев приглашал и далее писать в «Колокол» своего «почтенного и благородного критика» 6. И тот не преминул оперативно воспользоваться предложением, чтобы вновь разъяснять преимущества своего проекта и слабости других. Для убедительности склонный к строгому анализу публицист апеллировал и к художественной литературе – одному из эпизодов рассказа И. С. Тургенева «Однодворец Овсяников» 7. Притом в отличие от Огарева его оппонент заявил о готовности обсуждать возможные ошибки в собственном проекте 8. Но ответа от Огарева не последовало, хотя пожелание Тургенева «всем любящим» крестьян – «стоять твердо и дружелюбно» на почве их «пользы и блага» 9 – ему не было чуждо.
К сентябрю 1859 г. в общих чертах был готов правительственный проект, основанный именно на выкупной модели освобождения крестьян с привлечением государственных кредитных средств. В этих условиях приобрела актуальность рубрика «Комиссии для составления положений о крестьянах», организованная в «Колоколе» Огаревым. На высказанные им в 63-м номере соображения Тургенев возразил в третьем открытом «Письме» в редакцию. Он опять подверг сомнению оптимальность «выкупной модели» и утверждение Огарева, что ее «желает не только дворянство, но <…> и самый народ» 10. С точки зрения межпоколенческой коммуникации весьма показательно редакционное примечание к этой статье Тургенева в связи с его критикой «Колокола» за предубежденность против современной Европы и европейцев, якобы проникнутых исключительно ничтожным духом мещанства. В примечании редакции содержалась «поколенческая уступка» – согласие с высокой оценкой Тургеневым прусского реформатора начала XIX в. барона Штейна и «его сверстников». Однако призыв автора «Письма» к большей «разборчивости» 11 в целом в отзывах о немцах и европейцах поддержан не был.
Интересно, что четвертое тургеневское «Письмо к издателям» уже не содержало прямой полемики с ними. Хотя благожелательное отношение автора к реформаторской инициативе великой княгини Елены Павловны, начавшей освобождение крестьян в своем имении Кар-ловка, судя по очередному примечанию к тургеневской статье, руководство «Колокола» не вполне разделяло. Вместе с тем и само «Письмо» было сфокусировано на выявлении слабых мест «карловского» проекта 12.
Так, участие Тургенева в «Колоколе» в 1858–1860 гг. позволило ему весьма полно высказаться по широкому кругу остроактуальных социальных, экономических, политических тем, а редакции – представить читателям более широкую палитру мнений относительно готовящихся преобразований. Это способствовало коммуникации между поколениями «освободителей», пусть имя одного из «старших» русских либералов, последовательного приверженца «реформ сверху» при гласном обсуждении их проектов, сторонника прагматичного взвешенного анализа дискутируемых проблем тогда оставалось тайной для читателей.
В контексте взаимодействия Н. И. Тургенева с «лондонскими пропагандистами» симптоматичен обмен посланиями между ними сразу после 19 февраля 1861 г. В письме Герцена и Огарева от 28 марта 1861 г. прозвучало признание в «сыновней любви» к Тургеневу – «одному из первых, начавших говорить об освобождении русского народа» (Герцен, Огарев, 1963, с. 143–144). «Ветеран» поддержал риторику эстафетной связи «отцов» и «детей» в деле освобождения народа, назвав Манифест «Благой вестью», которую все они с нетерпением ждали [Оксман, 1955, с. 586–588]. Притом со свойственной ему деловитостью Тургенев предпочел сконцентрироваться на формулировании задач дальнейшего сотрудничества с «Колоколом». Одна из них – «восставать» против телесных наказаний, поскольку подписанные императором 19 февраля документы, лишив «права розог» помещиков, сохраняли его за «волостным судом» [Там же, с. 586]. Это предопределило тему следующей статьи Н. И. Тургенева в лондонской газете – «Филарет и розги», напечатанной с «продолжением» в двух июньских номерах 1862 г. И вновь поколенческая тема прозвучала в примечании редакции: «Мы получили это письмо от одного из почтеннейших ветеранов освобождения крестьян» 13.
В 1863 г., как указывалось выше, появилась последняя в «Колоколе» публикация Н. И. Тургенева – полемический ответ на мемуары И. Д. Якушкина, издание которых было организовано и рекламировалось Герценом. После завершения в 1866 г. участия старшего Тургенева и в «Русском заграничном сборнике» связи публициста с русскоязычным читателем способствовало его сотрудничество с немецким издательством Брокгауза, распространявшим литературу на разных языках. Там вышла последняя брошюра Тургенева «О нравственном отношении России к Европе», отразившая, в частности, перемены в его трактовке «польского вопроса» после восстания 1863–1864 гг. Интересно, что И. С. Тургенев в статье памяти Н. И. Тургенева, раздвигая обычные для этого жанра рамки и несколько проблемати-зируя биографию либерала, высказал ему упрек в излишней резкости суждений по проблеме русско-польских отношений (Тургенев, 1983, с. 175).
Как ни парадоксально, выступить в пореформенной печати внутри России, даже в организованном либералами в 1866 г. «Вестнике Европы», Н. И. Тургеневу не пришлось. Однако незадолго до смерти его имя всё же стало возвращаться в пространство отечественной журналистики и упоминаться с сочувствием. Этому способствовала серия «исторических очерков» А. Н. Пыпина «Характеристики литературных мнений от 20-х до 50-х годов» в «Вестнике Европы» в 1871 г. «Плановая» публикация одного из них в декабрьском номере «встретилась» с некрологом Н. И. Тургенева, в первых же строках которого И. С. Тургенев аттестовал «Характеристики…» как «превосходные» (Тургенев, 1983, с. 175). Заметный вклад в новое знакомство отечественной публики со старшим Тургеневым внесла книга Пы-пина «Общественное движение в России при Александре I», вышедшая еще при жизни Николая Ивановича в том же 1871 г. в издательстве «Вестника Европы» и активно рекламировавшаяся в журнале. Так, в изданиях либерально настроенных шестидесятников началось освоение наследия Н. И. Тургенева – для них уже «деда».
Мысль о значении межпоколенческой коммуникации – одна из стержневых в статье памяти умершего 29 октября (10 ноября) 1871 г. Н. И. Тургенева, которая была оперативно подготовлена И. С. Тургеневым в Париже (датирована 17/29 ноября) по заказу редактора «Вестника Европы». Видный исследователь крестьянского вопроса В. И. Семевский назвал этот некролог лучшим среди откликов на кончину Н. И. Тургенева [Семевский, 1901, с. 113], думается, именно благодаря акценту на теме преемственности поколений. Характерно, в частности, отмеченное автором некролога восприятие самим Н. И. Тургеневым связи между реформаторами разных эпох и народов – годившимся ему в отцы немцем Г. Ф. Штейном и годившимся ему в сыновья Н. А. Милютиным, одним из главных разработчиков крестьянской реформы 1861 г. в России (Тургенев, 1983, c. 181).
Подводя итоги, надо сказать, что оба Тургеневых, принадлежавшие к разным возрастным когортам, сыграли важную роль в истории межпоколенческой коммуникации, и во многом благодаря именно их публицистике. Они на собственном примере показали возможность конструктивного, чуждого жестко иерархической модели взаимодействия «отцов», «детей», «внуков». Хотя, конечно, как писал по другому поводу Н. И. Тургенев, никто на земле не достигает абсолютного совершенства 14, а путь к взаимопониманию с «другими» никогда не идет только «в гору». Определяющее значение при выстраивании Тургеневыми диалога с представителями поколений 20, 40 и 60-х гг., думается, имели общие для обоих публицистов идейно-ценностные ориентиры, восходившие к классическому либерализму, прежде всего стремление к свободе от каких-либо предубеждений – национальных, сословных, возрастных. К снижению коммуникативных барьеров между «старшими» и «младшими» вели готовность Н. И. и И. С. Тургеневых к уважительному вниманию к взглядам и поведенческим стратегиям «других», отказ от их демонизации и апологетизации «своих», от фанатичного отстаивания собственной позиции даже в ситуации принципиального полемического противостояния в прессе.
Список литературы Публицистика Н. И. и И. С. Тургеневых в свете проблемы межпоколенческой коммуникации
- Вернадский Г. В. Письмо Н. И. Тургенева по крестьянскому вопросу 1859 г. // Сборник общества исторических, философских и социальных наук при Пермском ун-те. Пермь, 1918. Вып. 1. С. 119-129.
- Генералова Н. П. И. С. Тургенев: Россия и Европа: из истории русско-европейских литературных и общественных связей. СПб.: Изд-во Рус. Христиан.-гуманитар. ин-та, 2003. 583 с.
- Гусман Л. Ю. В тени Колокола: Русская либерально-конституционалистская эмиграция и общественное движение в России (1840-1860 гг.). СПб.: Изд-во Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена, 2004. 376 с.
- Дубин Б. В. Социальный статус, культурный капитал, ценностный выбор: межпоколенческая репродукция и разрыв поколений // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 1995. № 1. С. 14-18.
- Зенкин С. Н. «Поколение»: Опыт деконструкции понятия // Поколение в социокультурном контексте XX века. М.: Наука, 2005. С. 130-136.
- Китаев В. А. И. С. Тургенев - теоретик и практик крестьянского дела в России. Статья первая // Вестник Нижегород. ун-та им. Н. И. Лобачевского. 2020. № 5. С. 38-48.
- Мостовская Н. Н. И. С. Тургенев и русская журналистика 70-х годов XIX века. Л.: Наука, 1983. 216 с.
- Мостовская Н. Н. Из полемики вокруг «Воспоминаний о Белинском» Тургенева // Некрасовский сборник. СПб.: Наука, 2008. С. 233-238.
- Нарежный А. И., Пятикова М. В. Декабрист Н. И. Тургенев в отечественной историографии // Российский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5, № 5. С. 499-506.
- Оксман Ю. Г. Н. И. Тургенев - Герцену // Лит. наследство. 1955. Т. 62. С. 583-590.
- Отцы и дети: Поколенческий анализ современной России. М.: НЛО, 2005. 328 с.
- Пискунова А. В. Декабрист Н. И. Тургенев в эпоху Великих реформ // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 2016. № 3. С. 3-15.
- Семевский В. И. Тургенев (Николай Иванович) // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1902. Т. 34. С. 106-113.
- Тарасова В. М. Декабрист Тургенев - сотрудник «Колокола» // Проблемы изучения Герцена. М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 239-250.
- Тарасова В. М. О времени знакомства Тургенева с Н. И. Тургеневым // Тургеневский сборник. М.; Л.: Наука, 1964. Вып. 1. С. 276-278.
- Тесля А. А., Фолина А. И. Полемика А. И. Герцена и И. С. Тургенева // Учен. заметки Тихоокеанского гос. ун-та, 2016. Т. 7, № 2. 2016. С.73-85.
- Фетисов И. И. Из переписки Николая Ивановича Тургенева в 40-60-е годы // Памяти декабристов. Л., 1926. Т. 3. С. 87-103.
- Черняк Я. З. Примечания // Н. П. Огарев. Избранные социально-политические и философские произведения: В 2 т. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1952. Т. 1. С. 830-831.
- Архив братьев Тургеневых. Пг.: Изд. Отд-ния рус. яз. и словесности Имп. Акад. наук, 1921. Вып. 5. Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева за 1816-1824 годы. T. 3. 525 с.
- Герцен А. И., Огарев Н. П. Письмо Н. И. Тургеневу // Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М.: Изд-во АН СССР, 1963. Т. 27: Письма 1860-1864 годов. Кн. 1. С. 143-144.
- Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч. М.: Наука, 1982. Т. 10. 607 с.; 1983. Т. 11. 527 с.
- Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Соч. M.; Л., Наука, 1968. Т. 15. 495 с.
- Тынянов Ю. Н. Смерть Вазир-Мухтара // Тынянов Ю. Н. Соч.: В 3 т. М.; Л.: ГИХЛ, 1959. Т. 2. 545 с.