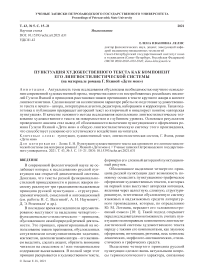Пунктуация художественного текста как компонент его лингвостилистической системы (на материале романа Г. Яхиной "Дети мои")
Автор: Лелис Е.И.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 5 т.43, 2021 года.
Бесплатный доступ
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью научного осмысления современной художественной прозы, творчества одного из востребованных российских писателей Гузели Яхиной и принципов расстановки знаков препинания в тексте крупного жанра в аспекте лингвостилистики. Сделан акцент на коллективном характере работы по подготовке художественного текста к печати - автора, литературных агентов, редакторов, наборщиков и корректоров. Такая подготовка к публикации превращает авторский текст во вторичный и нивелирует понятие «авторская пунктуация». В качестве основного метода исследования использовано лингвостилистическое толкование художественного текста на поверхностном и глубинном уровнях. Основным результатом проведенного анализа стал вывод об обоснованности включения пунктуационного оформления романа Гузели Яхиной «Дети мои» в общую лингвостилистическую систему этого произведения, что способствует усилению его эстетического воздействия на читателя.
Пунктуация, художественный текст, лингвостилистическая система, г. яхина, роман
Короткий адрес: https://sciup.org/147234609
IDR: 147234609 | УДК: 81.42 | DOI: 10.15393/uchz.art.2021.631
Текст научной статьи Пунктуация художественного текста как компонент его лингвостилистической системы (на материале романа Г. Яхиной "Дети мои")
В современной филологической науке не ослабевает интерес к исследованию русской пунктуации как открытой динамической системы. Доказано, что тексты разной функциональностилевой принадлежности и разных жанров по-своему реализуют три традиционно выделяемые принципа русской пунктуации – структурнограмматический, смысловой и интонационный (см. работы Н. С. Валгиной1, А. Н. Наумович2, Д. Э. Розенталя3 и др.).
В последнее время исследователи аргументированно выступают за выделение четвертого – функционально-стилистического – принципа, обусловленного самой природой речевой деятельности. Это принцип, ориентированный на использование знаков препинания, обусловленных ситуативными коммуникативными задачами, контекстом, целеполаганием автора – его желанием выделить, сделать акцент, обратить внимание читателя на смысловое и / или эмоциональное содержание высказывания. В полной мере этот принцип раскрывается в художественном тексте,
формируя его сложный авторский пунктуационный рисунок.
Обоснованное выделение четвертого принципа русской пунктуации дает возможность по-новому осмыслить пунктуационно-графическое оформление художественных текстов, в которых на первый план выступает авторская интенция, явленная через целостную, сложную, структурированную, эстетически обусловленную систему языковых и надъязыковых средств литературного произведения, которые, по определению Ю. М. Лотмана, передают его «сложнопостро-енный смысл» [10: 1]. Такой подход открывает перед исследователями возможность считать пунктуацию полноправным компонентом лингвостилистической системы художественного текста наряду с такими его компонентами, как звуковое оформление, интонация, ритмика, весь комплекс лексических, морфолого-синтаксических, стилистических и графических средств.
Выделение четвертого принципа русской пунктуации сделало вновь актуальными вопросы терминологического характера, связанные с содержанием и объемом таких понятий, как «авторские знаки препинания» [2], [9], [11], «альтернативные знаки препинания» [4], «стилистически значимые знаки препинания» [7], «экспрессивная пунктуация» [6], [8], «нерегла-ментированное (нестандартное) использование пунктуационных приемов» [1], [3] и др.
В данном исследовании в качестве рабочего используется понятие «авторские знаки препинания» как наиболее частотное в современных исследованиях, хотя его содержание пока окончательно не определено. С одной стороны, под авторскими знаками препинания понимают такие особенности пунктуационного оформления текста, которые носят индивидуальный характер: набор используемых знаков препинания, частота их употребления, расширение функций, в целом не противоречащее пунктуационным правилам; с другой – сознательное нарушение автором текста действующих пунктуационных правил.
Не всегда удается провести четкую границу между двумя подходами к содержанию этого понятия. Но в любом случае авторская пунктуация – сложное, многоаспектное явление, которое выступает и как стилистический маркер, и как идиостилевой прием. Безусловно, такая пунктуация открывает путь к постижению смысловой глубины художественного текста [5], играет важную роль в системе выражения его скрытых (подтекстовых) смыслов, повышает экспрессивность текста [12] и формирует его пунктуационно-графический образ [1]. Она способствует раскрытию языковой личности художника слова, особенностей его идиостиля и картины мира. Но к расстановке знаков препинания в современных изданиях литературного произведения его автор имеет лишь опосредованное отношение. В том, какой знак препинания аутентичен, можно быть уверенным, только если исследователь получает доступ к автографам и рукописям. Опубликованный текст вторичен, он проходит длительный путь предпечатной подготовки: компьютерной верстки и корректорской вычитки. Значительный вклад в подготовку рукописи к печати может вносить и литературный агент. Но главную роль в этом процессе играет редактор.
Профессионализм редактора, как справедливо отмечает Н. Л. Шубина, состоит в том, чтобы максимально адекватно передать авторскую мысль:
«Редактор текста в соответствии со своей мотивационно-целевой программой, не нарушая тождества в коммуникативно-функциональном отношении между оригинальным (авторским) и так называемым вторичным текстом, призван не допустить коммуникативные сбои при восприятии и интерпретации текста читателем» [13: 55].
Литературные агенты, издательства и редакции, как правило, довольно свободно относятся к авторской пунктуации, даже в текстах классиков. Хотя не исключено, что при прохождении предпечатной подготовки не все знаки препинания подвергаются изменению. В отдельных случаях в публикуемых изданиях указывается, что авторская пунктуация сохранена. Но чтобы оценить, насколько это утверждение соответствует действительности, исследователю необходим доступ к первоисточнику. Поэтому при анализе пунктуации опубликованного художественного текста указание на издание носит не только справочный характер. В связи с этим необходимо констатировать: предлагаемый пунктуационный анализ отдельных фрагментов романа Гузели Яхиной «Дети мои» выполнен по тексту, опубликованному в 2019 году издательством «АСТ» (редакцией Елены Шубиной)4. В конце своей книги Г. Яхина перечисляет коллег и единомышленников, которые так или иначе участвовали в подготовке романа к публикации. Среди других названы редактор Галина Беляева – с благодарностью «за ювелирную редакторскую работу», ведущий редактор Анна Колесникова, младший редактор Вероника Дмитриева, два корректора и специалисты по компьютерной верстке текста. Есть все основания предположить, что авторская пунктуация Гузели Яхиной в ходе подготовки издания могла претерпеть неоднократные и существенные изменения. Корректировки могли быть внесены и сотрудниками литературного агентства ELKOST Intel, по соглашению с которым, как указано на форзаце книги, и публикуется книга. Роман Гузели Яхиной «Дети мои» – наглядный пример качественной работы издательского коллектива, который смог сохранить (или сделать?) пунктуацию текста важной частью его лингвостилистической системы, следуя традиции издания русской литературы уделять большое внимание графическому оформлению издания.
***
Повествовательное время романа занимает около двух десятилетий – 1920–1930-е годы. Неприметному и скромному школьному учителю из немецкой колонии Гнаденталь – «маленькому человеку», суждено было прожить жизнь на изломе политических эпох, больших исторических событий и крупных социальных трагедий. С самого начала главный герой предстает перед читателем полуфантастическим персонажем, который словно случайно забрел в отечественную историю ХХ века из толкиеновского Средиземья. В разломе между, с одной стороны, ужасающей действительностью (в романе изображены все самые страшные и уродливые проявления революции и Гражданской войны - разбои, насилие, разорение, издевательства) и, с другой стороны, фантазией главного героя, его сказочным, придуманным миром, в котором он спасается, - проявлена авторская мысль о вечной борьбе добра и зла, человеческого и бесчеловечного, любви и ненависти. Эти два тематических потока реализуются в двух параллельно развивающихся сюжетных линиях, в композиционно-смысловом разломе текста, в системе образов, каждый из которых встраивается в один из тематических потоков. Эти тематические потоки находят свое пунктуационное оформление в параллельных, сменяющих друг друга типах коммуникативно-синтаксического и пунктуационно-стилистического строя текста. Там, где перед глазами читателя возникают страшные картины реальности, синтаксический и пунктуационный строй текста однонаправлен и скуп. Налицо простая тема-рематическая прогрессия линейного типа. В продвижении содержания произведения рема предыдущей синтаксической конструкции становится темой последующей. Пунктуационное оформление таких фрагментов текста стремится к нормированности, функциональной однозначности и лаконичности, поскольку отражает прямые и непосредственные причинно-следственные связи между фактами и событиями реальной жизни, идею ее примитивности, приземленности, духовного обесценивания, косности. В таких контекстах переплетаются личная трагедия главного героя и социальная трагедия исторического времени. Перед нами - и синтаксически, и пунктуацион-но - осколки мира, который вдребезги разбит новыми хозяевами жизни:
«Хрустя рассыпанным по полу стеклом, Бах пошел по пустому дому. Он бывал здесь не раз и хорошо помнил обстановку, от которой почти ничего не осталось: голые стены топорщились задубелыми обоями, половицы выдраны, ковры и мебель исчезли...» (98).
Глагол активного действия героя «пошел» сменяется глаголом неактивного действия - «бывал», после которого повествование переключается в ментальную плоскость - «помнил». Действительность представляет собой ужасающую картину, явленную короткими, однотипными предикативными единицами, которые построены по принципу синтаксического параллелизма. Две из пяти предикативных единиц последнего предложения представляют собой нераспростра- ненные части - ритм текста учащен, интонационный рисунок коротких фраз однотипен. Глаголы неактивного действия «топорщились», «исчезли» и страдательное причастие «выдраны» вербализуют идею оборвавшейся жизни в доме, покинутом хозяевами. Пунктуация строго обусловлена синтаксической структурой фрагмента, но играет роль контекстуального графического средства объединения отдельных визуальных образов в единую картину запустения. Структурно-грамматическое употребление знаков препинания прирастает функционально-стилистическими наслоениями. Нормативная пунктуация начинает проявлять признаки авторского употребления.
По мере того как Якоб, изумленный и растерянный, пробирается по разоренной колонии, меняются синтаксис текста, его интонация, ритм и пунктуационный рисунок, который прирастает выразительностью настойчивого нанизывания одиночных - отделяющих запятых. Этот способ фиксации деталей, которые выстраиваются в ужасающую своими масштабами картину разрушения, приобретает статус графического градационного приема:
«Вышел во двор. Все двери в хозяйственных постройках - настежь. Вынесено все до последнего гвоздя: плуги, упряжи, клейма для скота, скребки, серпы, коромысла, рубели, фонари, терки и котлы для арбузного меда, маслобойки, меленки, мясорубки» (99).
Длинный однородный ряд с его ритмом, интонационным и пунктуационным однотоном - перечисление привычных предметов быта, которые в крестьянской среде изготавливались своими руками и без которых немыслима жизнь и работа на земле, - монтажный принцип построения текста, который позволяет увидеть картину разбойничьего ограбления колонии. Весь длинный список предметов - теперь это только воспоминания Якоба Баха, окрашенные ноющей болью. Нарастающие тревога и отчаяние героя ниже подчеркиваются градационным нанизыванием вопросительных знаков, фиксирующих ряд риторических вопросов и закрепляющих переход структурнограмматического пунктуирования текста в функционально-стилистическую плоскость:
«Чья злая воля опустошила покои, оставив хозяев без крова? Настигла ли преступников кара? Куда делись хозяева? Вынесенное добро и уведенный скот?» (99).
Последний из риторических вопросов свернут до контекстуально-неполной конструкции и позволяет передать ощущение растерянности героя, который не может понять, что произошло в колонии. Имеет значение и «рваный» ритм контекста: риторические вопросы, сменяя друг друга, становятся все более синтаксически свернутыми, а частота вопросительных знаков напоминает му- зыкальную фигуру тремоло, для которой характерно многократное быстрое повторение одного звука. Интонационная аритмия невербально подчеркивает оставленный разбойниками беспорядок и хаотическое движение мысли потрясенного Якоба, а настойчивый повтор вопросительных знаков предстает как невербальный фиксатор эмоционального напряжения героя. По мере того как Якоб постепенно принимает новые правила жизни, он осознает, что его прежняя профессия учителя теперь никому не нужна и важно научиться ремеслу, простым деревенским занятиям, которые смогут его прокормить. Меняются пунктуация текста, его интонация и ритм. Осознание героем неизбежности принятия новых правил жизни обуздывает пунктуационную стихию текста: длинные ряды однородных членов, называющих профессии, многочленный однородный ряд сказуемых – глаголов активного действия графически оформлены нормативными, функционально однотипными запятыми, лингвостилистической задачей которых становится графическое оформление тех новых и очень разных для героя умений, которые помогают ему выжить:
«А Бах был теперь и лесоруб, и рыбак, и трубочист, и садовник. Он выучился всему: рубить деревья, ловить в силки зайцев, варить смолу, латать соломой крышу, мазать глиной щели в полу, чистить колодец, белить известью шершавые яблоневые стволы…»(91).
Но совсем иначе синтаксически и пунктуаци-онно строятся фрагменты текста, раскрывающие потаенный мир Якоба Баха. Здесь проявляются буйство красок, обилие деталей и подробностей, аллюзий и фантазий, требующих использования широкого спектра функциональных возможностей знаков препинания:
«Стихи, которые Бах изредка читал вечерами, стоя рядом с Кларой на обрыве и глядя на бьющие далеко внизу волжские волны, звучали так ясно и мощно, словно он писал их черной тушью на пылающем закатном небе, словно вышивал золотом и драгоценными камнями по простому льну. Тексты же песенок и шван-ков, которые напевала Клара, все ее пословицы и поговорки, просторечные прибаутки и присказки, наоборот, были близки и родны хутору, как вездесущая трава или паутина, как запах воды и камней; они шли этой уединенной жизни и росли из нее, потому исправлять Кларину речь не хотелось»(90).
Такие фрагменты текста представляют собой параллельные тема-рематические структуры. Внешне они как будто самостоятельны, поскольку между ними отсутствуют формальные средства выражения связи. Их графическая и синтаксическая автономность служит раскрытию многогранного и многомерного внутренне- го мира героя, открывает читателю невидимое взгляду, невыразимое, невербализованное, глубинное, сокровенное.
Воображение героя раскрепощено, поэтому синтаксические структуры развернуты, предложения характеризуются большим количеством второстепенных членов и осложняющих элементов – однородных обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, распространенных однородных членов, соединенных попарно и потому усложняющих ритмический рисунок текста. Вводное слово, сравнительные обороты и придаточные части со значением сравнения, инверсия – весь контекст, аранжированный пунктуационно, благодаря этому богатству стилистически значимых средств становится вербально-графической формой выражения наполненности и содержательности жизни главного героя, богатства ее красок и внутренней красоты.
Функционально нагруженными оказываются одиночные и парные запятые, которые отделяют однородные члены и придаточную часть сложноподчиненного предложения от главной, выделяют вводное слово, деепричастный оборот, оформляют следующие друг за другом сравнительные обороты. Еще выразительнее и богаче становится пунктуационная палитра тех фрагментов текста, которые погружают читателя в мир фантазий Якоба Баха:
«Сидел и смотрел на бледные нити света, пробивавшиеся из ставенных щелей, – закат едва проникал в дом. Слушал звуки осеннего вечера: посвистывание ветра, одинокие вздохи неясыти в лесу. Вдруг осознал – остро, до теплоты в груди, – как рад вернуться домой, к этому лесу, к этому саду и спящей в нем Кларе, к вечной Волге под обрывом. <…> Подумалось: вот он, момент настоящей жизни – сидеть у порога и оберегать детский сон» (337–338).
Пунктуационный арсенал текста становится богаче: появляются тире, двоеточие, сочетание знаков препинания (запятая и тире). Расширяется и их функциональный потенциал: графическое оформление двух параллельных для Якоба миров – внешнего и внутреннего. В его судьбе наконец настал тот момент, когда в окружающей действительности он может найти точку опоры, обнадеживающее ядро жизни, гармонию и красоту. Вернее, это он сам посредством своего воображения и всепоглощающей любви к дочери наделяет внешний мир тем, что дает ему силы. Поэтому действительность для него перестает быть расколотой надвое. Отсюда и графическое оформление текста, подчеркивающее взаимообусловленность и взаимное перетекание друг в друга внешнего и внутреннего: зеркальная сим- метрия знаков препинания при перечислении деталей и образов, принадлежащих сначала внешнему, а потом и внутреннему миру. Только тире, будучи здесь ненормированным, авторским, становится графическим обозначением удивления и нового для героя обостренного чувства гармонии с миром.
Весь пунктуационный рисунок графически оформляет усложненный лексико-грамматический строй текста: вновь оказывается востребованным синтаксический параллелизм, усиленный аллитерационными образами («сидел», «смотрел», «слушал», «слышал»), лексическим повтором («к этому лесу», «к этому саду», «под яблонями», «сами яблони»), морфемным повтором («бездушного и безумного»), грамматическим повтором («сидел и смотрел», «сидеть» и «оберегать»). Умиротворенная картина рождает в душе героя сокровенные чувства – тихую радость и готовность уберечь родного ребенка от несчастий и бед. Внешний стимул пробуждает ментальную реакцию.
Умение Якоба видеть и слышать прекрасное, жить в мире, созданном собственным воображением – ярком и выразительном – где нет места злобе, зависти и жестокости, передается и его дочери Анче. Теперь это и ее мир, наполненный красками и звуками, «огромный и невероятный». Этот мир построен на гармонии и обладает способностью все время удивлять. Отсюда гармония синтаксического параллелизма, лексического повтора, ритмической сбалансированности, ассонанса и аллитерации абсолютного начала соположенных лексем, и, как следствие, пунктуационный рисунок фрагментов текста, раскрывающих внутренний мир героя, становится все более сложным. Более частотны случаи использования авторских знаков препинания, нарушающих требование нормативности. Они расставляют в тексте важные смысловые и эмоциональные акценты, структурируют его по-новому. Это можно наблюдать, например, в следующем фрагменте текста:
«Увиденное впервые – впечатывалось в память чередой цветных и изумительно четких фотографий. Услышанное впервые – отливалось в воспоминаниях, как отливаются в прочном шеллаке граммофонные пластинки. Мир – огромный, невероятный – не вмеща лся в глаза и уши, ослеплял и оглушал»(320–321).
Нерегламентированные повторяющиеся тире уравновешивают большие синтаксические конструкции, графически сопровождая синтаксический параллелизм, усиленный лексическим повтором («впервые»). И далее: парные вариативные тире (вместо парных запятых) выделяют два однородных обособленных определе- ния и органично встроены в синтаксический, звуковой и ритмический рисунок предложения: два однородных определения, два однородных обстоятельства, два анафорических ассонанса («ослеплял» и «оглушал»). Чем глубже читатель погружается в гармонию внутреннего мира Якоба, тем чаще встречаются нерегламентированные знаки препинания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отметим, что критика дает диаметральные оценки роману Г. Яхиной «Дети мои»: от хвалебных до резко уничижительных. Но то, что в нем удалось выразительно и ярко, в том числе и пунктуационными средствами, противопоставить два мира, две идеи, две сущности бытия, не вызывает сомнения.
Повествование, затрагивающее описание внешнего мира, оформлено преимущественно регламентированной пунктуацией, знаки препинания, как правило, однозначны, но способны проявлять потенции функциональных приращений, хотя их спектр невелик. В целом вся пунктуационная система этих фрагментов текста не обнаруживает мощных функционально-стилистических наслоений и лишь намечает эмоционально-смысловые акценты. Совсем иначе проявляет свой выразительный потенциал пунктуационный рисунок тех фрагментов текста, которые посвящены духовному миру главного героя – Якоба Баха. Знаки препинания встраиваются в общую систему вербальных и невербальных (графических и грамматических) средств смыслопорождения, эмоционально-смыслового обогащения текста. Эта система носит синкретичный характер, что позволяет ее отдельным элементам резонировать друг с другом, усиливая эстетическое впечатление от текста. Для функционирования этой системы оказываются востребованными авторские знаки препинания, нарушающие жесткие требования регламентированной пунктуации.
Результаты проведенного анализа показывают, что пунктуационное оформление текста – важное средство для передачи эстетически значимой информации. Чем сложнее и богаче пунктуационная «аранжировка» текста, тем весомее ее роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения. Пунктуация художественного текста проявляет себя как компонент его единой лингвостилистической системы, средство усиления эстетического впечатления на читателя. Сложность пунктуационного рисунка художественного текста не только служит «уплотнению» текстового пространства, но и ведет к сокращению числа других – вербальных и невербальных – выразительных средств и вместе с ними способствует восприятию смысловой глубины текста.
Список литературы Пунктуация художественного текста как компонент его лингвостилистической системы (на материале романа Г. Яхиной "Дети мои")
- Арзямова О. В . Пунктуационно-графический образ новейшей русской прозы (на материале художественных текстов начала XXI века) // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2016. № 1 (270). С. 184-187.
- Валгина Н. С. Знаки препинания как средства выражения смысла в тексте // Филологические науки. 2004. № 1. С. 16-26.
- Веккессер М. В . Нерегламентированная пунктуация в романе Д. Рубиной «Белая голубка Кордовы» // Экология языка и коммуникативная практика. 2015. № 1 (4). С. 179-187.
- Вяткина С. В . Альтернативная пунктуация в современном художественном тексте // Русское слово в многоязычном мире: Материалы XIV Конгресса МАПРЯЛ / Редколлегия: Н. А. Боженкова, С. В. Вяткина, Н. И. Клушина и др. СПб., 2019. С. 680-685.
- Вяткина С. В ., Ту Ц. Многоточие как знак осмысления рассказов В. Маканина // Актуальные проблемы гуманитарного знания в техническом вузе: Материалы VI Междунар. науч.-метод. конф. СПб., 2017. С. 45-50.
- Демидова Н. И. Инновационные процессы в современной русской пунктуации в аспекте методической науки // Педагогика и психология как ресурс развития современного общества: Материалы X Между-нар. науч.-практ. конф. Рязань, 2018. С. 402-405.
- Дзякович Е. В . Экспрессивные пунктуационные приемы в передаче чужой речи // Предложение и слово: Вторая Междунар. науч. конф.: Межвуз. сб. науч. трудов / Под общ. ред. Э. П. Калькаловой. Саратов, 2002. С. 204-209.
- Ку дряшева Ф. С. Экспрессивная пунктуация в художественном тексте // Вестник Башкирского университета. 2014. Т. 19. № 3. С. 909-914.
- Купченко Т. А. Авторские знаки препинания как способ создания редакции текста. На примере поэмы В. Маяковского «150000000» // Studia Litterarum. 2020. Т. 5. № 2. С. 438-469.
- Лотман Ю. М. Структура художественного текста. СПб.: Искусство, 1998. 285 с.
- Подшивалова Н. И., Сидорова Е. В. Особенности авторской пунктуации в романе «Авиатор» Е. Г. Водолазкина // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2018. № 3-1 (81). С. 173-175.
- Четверикова О. В . Графические знаки языка как маркеры синтаксической и семантической ослож-ненности текста // Colloquium-journal. 2019. № 2-3 (26). С. 69-70.
- Шубина Н . Л. Текстовая пунктуация как объект интерпретирующей мысли // Научное мнение. 2015. № 11-1. С. 54-61.