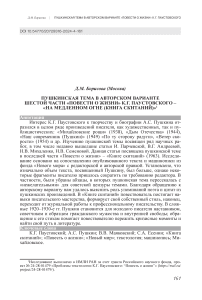Пушкинская тема в авторском варианте шестой части "повести о жизни" К.Г Паустовского - "На медленном огне (книга скитаний)"
Автор: Борисова Д.М.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 4 (71), 2024 года.
Бесплатный доступ
Интерес К.Г. Паустовского к творчеству и биографии А.С. Пушкина отразился в целом ряде произведений писателя, как художественных, так и публицистических: «Михайловские рощи» (1938), «Дым Отечества» (1944), «Наш современник (Пушкин)» (1949) «По ту сторону радуги», «Ветер скорости» (1954) и др. Изучению пушкинской темы посвящен ряд научных работ, в том числе недавно вышедшие статьи И. Парчевской, В. Г. Андреевой, Н. В. Михаленко, Н.В. Семеновой. Данная статья посвящена пушкинской теме в последней части «Повести о жизни» - «Книге скитаний» (1963). Исследование основано на сопоставлении опубликованного текста и машинописи из фонда «Нового мира» с редакторской и авторской правкой. Установлено, что изначально объем текста, посвященный Пушкину, был больше, однако некоторые фрагменты писателю пришлось сократить по требованию редактора. В частности, были убраны абзацы, в которых пушкинская тема пересекалась с «нежелательными» для советской цензуры темами. Благодаря обращению к авторскому варианту нам удалось выяснить роль упоминаний поэта и цитат из пушкинских произведений. В «Книге скитаний» повествователь постигает навыки писательского мастерства, формирует свой собственный стиль, наконец, переходит от журнальной работы к профессиональному писательству. В сложные 1920-1930-е гг. Пушкин становится для молодого писателя наставником, советчиком и образцом гражданского мужества и внутренней свободы; обращение к его стихам помогает повествователю пережить кризисные моменты и найти свой путь в литературе.
К.г. паустовский, а.с. пушкин, в.в. маяковский, с.а. есенин, «книга скитаний», «повесть о жизни», «новый мир», текстология, машинопись, михайловское
Короткий адрес: https://sciup.org/149147185
IDR: 149147185 | DOI: 10.54770/20729316-2024-4-161
Текст научной статьи Пушкинская тема в авторском варианте шестой части "повести о жизни" К.Г Паустовского - "На медленном огне (книга скитаний)"
K.G. Paustovsky; A.S. Pushkin; V.V. Mayakovsky; S.A. Yesenin; “The Book of Wanderings”; “The Story of Life”; “The New World”, textual criticism; typescript; Mikhailovskoye.
Пушкинская тема в творчестве К.Г. Паустовского уже становилась объектом научных исследований, при этом особое внимание уделялось анализу пьесы «Наш современник», написанной к 150-летию со дня рождения поэта. Из исследований последних лет отметим работы И. Парчевской [Парчевская 2015], В.Г. Андреевой [Андреева 2022], Н.В. Михаленко [Михаленко 2023] и Н.В. Семеновой [Семенова 2023]. В нашей статье основное внимание уделяется анализу последней, шестой части «Повести о жизни», причем как опубликованного текста, так и фрагментов, изъятых редакторами «Нового мира».
Пушкинская тема занимала в жизни и творчестве Паустовского особое место. «Всё, что связано с именем Пушкина, с людьми, которые его окружали или были его современниками, с местами, где он жил, полно для меня живого интереса и прелести. <…> Пушкин для меня в большей степени современник, чем многие мои собратья по перу, родившиеся со мной в одно время», – признавался писатель в неизданном при жизни автора предисловии к сборнику стихов («Наш Пушкин», 1949) [Паустовский 1972, 391]. Впоследствии эти слова перейдут в статью «Чувство истории» (1965) [Паустовский 1972, 32]. Классик неоднократно становился героем художественных произведений и публицистики Паустовского. В рассказе «Колотый сахар» (1937) повествователь слушает старика, дед которого пел самому Пушкину и вез тело поэта в Святые Горы. В пьесе «Наш современник (Пушкин)» (1949) писатель стремился воссоздать образ «живого Пушкина во всей его сложности» [Паустовский 1972, 380]. Музею-заповеднику в Михайловском и в Святых Горах посвящен целый ряд текстов: «Михайловские рощи» (1938), «Дым Отечества» (1944), «По ту сторону радуги», «Ветер скорости» (1954) и др. Паустовский дважды – в 1937 и 1954 гг. – бывал в этих местах и испытывал к ним особое благоговение, а холм под стеной Святогорского монастыря называл «лучшим местом на земле» [Паустовский 1986, 392]. «Таких далеких и чистых далей, какие открываются с этого холма, нет больше нигде в России», – признавался Паустовский Л.Н. Делекторской [Паустовский 1986, 392]. Цитаты из Пушкина и упоминания имени поэта встречаются и в публицистике («Поэзия прозы», 1953; «Живое и мертвое слово», 1960; «Чувство истории», 1965, и др.), и в посвященной писательскому труду «Золотой розе» (1955). Пушкинская тема появляется и в «Повести о жизни» (1946–1963).
Нас интересует последняя часть этого автобиографического произведения, известного как «Книга скитаний» (1963). У нее была непростая публикационная судьба. Изначально произведение носило название «На медленном огне (Книга скитаний)», однако впоследствии от столь острого заголовка пришлось отказаться. В 1963 г. глава «Старинная карта» в сокращенном виде вышла в журнале «Вокруг света» [Паустовский 1963e], глава «Ночные поезда» – в «Литературной газете» [Паустовский 1963d]. В обоих случаях было отмечено, что это фрагменты книги «На медленном огне».
Произведение, посвященное литературной жизни 1920–1930-х гг., подверглось в редакции журнала «Новый мир» значительной правке, в том числе и по цензурным соображениям. Первая публикация книги («Новый мир». 1963. № 10–11) вышла с купюрами, она до сих пор известна только в урезанном виде. Отдельные фрагменты, вычеркнутые редактором, были опубликованы в журнале «Мир Паустовского» (№ 23 за 2005 г. и № 31 за 2016 г.) и представлены на юбилейной выставке, посвященной 125-летию со дня рождения писателя (2017).
В шестой части «Повести о жизни» главный герой входит в «большую» литературу, учась как у современников, так и у великих писателей прошлого – в том числе у Пушкина.
Повествователь живет в непростое время: в стране голод и разруха, будущее неясно, литературная и газетно-журнальная жизнь начинаются заново, а язык переживает трансформацию. В самые драматичные, переломные моменты молодому писателю вспоминаются давно прочитанные пушкинские строки.
После смерти Ленина (1924) герой стоит в Колонном зале среди тысяч людей, собравшихся проводить в последний путь вождя (глава «Стужа»). Рассказчиком овладели растерянность и оцепенение: он верил, что «человек, стремительно перекроивший мир» [Паустовский 1963a, 85], «знал, что делать» [Паустовский 1963a, 87] дальше, – теперь же будущее неясно. Народ, переживший тяготы революции и войны во имя веры в «торжество грядущего дня» [Паустовский 1963a, 85], остался наедине с голодом, разрухой и в полной неизвестности.
Весь день после похорон рассказчику вспоминаются слова из «Последнего поэта» Е.А. Боратынского: «Век шествует своим путем железным…» [Пау- стовский 1963a, 86]. Выражение «железный век» с давних пор означало «век эгоизма и бессердечия», «тяжелое, безжалостное время». У Боратынского железный век – время, когда люди внешне преуспевают, но, увлеченные корыстью и суетой, забывают о высших, духовных потребностях. Искусство становится ненужным – и последний поэт погибает, незамеченный никем. Железный век описан как зима мира, время умирания [Баратынский 1936, 201–203]. Стоит заметить, что у Гесиода в «Трудах и днях» железный век предстает как время всеобщего несогласия и постоянных раздоров:
Дети – с отцами, с детьми – их отцы сговориться не смогут. Чуждыми станут товарищ товарищу, гостю – хозяин.
Больше не будет меж братьев любви, как бывало когда-то. <…> Правду заменит кулак. Города подпадут разграбленью [Эллинские поэты 1999, 54].
Рассказчик понимает, что бедствия еще не закончились, и пока вместо обещанного времени счастья, равенства и братства люди оказались в железном веке – мрачном, жестоком, безжалостном к человеку.
Но именно в этот момент в противовес мрачным пророчествам Боратынского герою пришли на ум светлые пушкинские строки:
Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы? В веке железном, скажи, кто золотой угадал?
[Паустовский 1963a, 86]
Вера в то, что за железным веком – вопреки древнегреческим мифам – наступит золотой, поддерживает героя и дает ему надежду.
Глава «Нелегкое дело» изначально носила название «Внутренняя оборона» – начинающему автору приходилось «упорно обороняться от всего, что могло засорить <…> внутренний мир», в том числе от «стертого и беспомощного языка» [Паустовский 1963a, 105]. В этой главе рассказывается о том, как повествователь переживает творческий кризис. Ранее молодой писатель создавал рассказы «наспех», «относился к ним довольно легкомысленно» [Паустовский 1963a, 105], но с приходом опыта пересмотрел отношение к своим ранним романтическим произведениям. Легкость и увлекательность «полуу-дачных рассказов» [Паустовский 1963a, 106] не искупала их недостатки. Произведения, когда-то нравившиеся самому писателю, оказались подражательными («из отходов Джозефа Конрада»), придуманными («от живой жизни в них присутствует всего только несколько крох, а все остальное набрано отовсюду и наспех связано непрочными нитями»). Герой судит себя без всякой жалости: его ранние вещи кажутся ему то похожими на согнутые гвозди («Исправлять их не было смысла, – давно известно, что как ни выправляй гвоздь, он все равно останется хоть и немного, а кривым»), то «пустыми, как съеденное червями яблоко». К тому же, печатаясь в газетах, повествователь уступал требованиям срочности и лишь после замечал, что в напечатанном рассказе «много скороспелого» [Паустовский 1963a, 106].
Путем ошибок, разочарований, долгой работы над собой герой приходит к решению уйти от подражания любимым писателям и никогда не публиковать произведение, не дав ему «отстояться». В эту пору мучительного поиска своего пути, своего голоса в литературе повествователю помогают «слова Пуш- кина об усовершенствовании любимых дум» – «ясный и четкий совет, или, пожалуй, приказ для пишущих» [Паустовский 1963a, 106]. Повествователь имеет ввиду строки из произведения Пушкина «Поэту». Отметим, что в стихотворении классик наставляет свободно мыслить, быть выше славы и наград, помнить, что подлинный поэт – «царь» [Пушкин 1997, 273].
Проблемы свободы мысли и свободы творчества, собственного достоинства и гражданского мужества становятся особенно актуальными в периоды наибольшего «давления сверху» на литературу. В период «оттепели» эта тема перестала быть запретной для обсуждения, хотя посвященные ей произведения могли жестко цензурироваться или не публиковаться вообще.
В главе «Снежные шапки» повествователь рассказывает о своем общении с Михаилом Булгаковым и дальнейшей судьбе гениального писателя. Булгаков становится для героя образцом поведения в период тотальной несвободы. Его «Письмо Сталину» (Письмо Правительству СССР, 1930) названо проявлением «высокого достоинства русского писателя» [Паустовский 1963a, 90]. Горячую симпатию героя вызывает и то, что затравленный, но несломленный гений умел незлобно подшучивать над своей судьбой.
В машинописи глава завершалась не придуманным «анекдотом» о разговоре Булгакова со Сталиным, а следующим абзацем: «Слушая этот рассказ Булгакова, невольно вспоминаешь рассказ Пушкина: “Ежели бы я был императором Николаем I-ым, то я бы вызвал к себе стихотворца Пушкина и сказал бы ему…” Этим своим рассказом Булгаков завязал тугой узелок между собой и Пушкиным и поддержал традицию вольного обращения русских писателей к сильным мира сего» [Паустовский 1963c, 63]. Сопоставляя монархию и тоталитаризм, Пушкина и Булгакова, автор давал примеры того, что при любом правительстве и строе писатель способен не терять достоинство и не менять свое мнение в угоду власть имущим.
Позднее данный фрагмент был вычеркнут синими чернилами, предположительно, рукой самого Паустовского по требованию редактора. Не заметно никаких попыток изменить абзац, как-то «отстоять» его. Не исключено, что сокращение было вызвано идеологическими соображениями. Даже для оттепели «вольное обращение русских писателей к сильным мира сего» было недосягаемой мечтой. Паустовский прекрасно это понимал. Всем была памятна опала Б.Л. Пастернака, показавшая, что власти по-прежнему хотят контролировать литературный процесс. Двумя годами ранее не раскупленная часть тиража альманаха «Тарусские страницы» была изъята, а ответственные сотрудники Тарусского издательства получили выговор или были уволены постановлением Бюро ЦК КПСС. Писателю приходилось быть осторожнее и жертвовать наиболее «острыми» фрагментами, чтобы опубликовать книгу.
В главе «Медные подковки» рассказчик, ставший свидетелем ухода из жизни Маяковского и Есенина, дважды вспоминает Пушкина.
Пытаясь понять, отчего два крупнейших поэта XX столетия покончили с собой, повествователь называет разные причины. Есенин ушел из жизни, «намаявшись в житейской бестолочи, в беспорядке своей быстрой славы, в тоске по рязанской земле» [Паустовский 1963a, 111]. Гибель Маяковского объясняется не только сложной жизнью, «болями и обидами», но и тем, что поэт «наступал на горло собственной песне», «совершил подвиг самопожертвования ради своей страны и народа» [Паустовский 1963a, 109]. В машинописи, сохранившейся в фонде «Нового мира» РГАЛИ, далее следовал абзац: «Ему хотелось петь, как и каждому, в ком поселилась беспощадная и светлая поэзия.
Петь о многом, о чем так вольно, не задумываясь, пели его товарищи – Пушкин, Тютчев, Блок, Есенин, Пастернак. Элегии, широко берущие за сердце, звучали рядом, как шум ночного ветра в деревьях. Но он не позволил себе прислушаться к ним. Он ломал и одергивал себя» [Паустовский 1963с, 107]. Весь этот фрагмент пришлось вычеркнуть синей ручкой после перечеркивания простым карандашом. Такая же судьба ждала абзацы с рассуждениями о том, что поэт погиб оттого, что безуспешно пытался «остановить в себе поток лирики», «жить половиной жизни, выдавая ее за целое» [Паустовский 1963с, 108]. Причина вычеркивания ясна: решение «наступить на горло собственной песне» в авторском варианте оказывается насилием над самим собой.
Обратим внимание, что Пушкин открывает ряд поэтов, пишущих «вольно, не задумываясь» [Паустовский 1963с, 107] о злобе дня и «полезности» лирики в трудные времена. Заметим, что замыкает список имя Пастернака, чьи стихи автор любил с молодых лет и чьей судьбе он искренне сочувствовал. Пушкинский идеал – поэт-«царь» [Пушкин 1997, 273], пишущий ради достижения эстетического и гармонического совершенства, противопоставляется поэту-«чернорабочему» [Паустовский 1963с, 107], причем рассказчику явно ближе первый идеал.
От историй гибели двух гениев – Есенина и Маяковского – повествователь переходит к рассуждениям о судьбах русских поэтов. Размышляя о ранней смерти гениев, рассказчик не может не вспомнить Пушкина, чья безвременная кончина еще в XIX в. стала символом трагизма судьбы русских поэтов.
При этом повествователь отмечает, что духовный кризис, приведший к гибели Есенина и Маяковского, был бы невозможен у более светлого и гармоничного Пушкина. Поэт не мог уйти из жизни из-за внутреннего надлома, неразрешимого конфликта с самим собой или с миром, «от отчаяния и усталости» [Паустовский 1963a, 111].
В воображении рассказчика рисуется «сон» о поэте: ссыльный Пушкин получает записку от Анны Керн. «Она ждет его у Осиповых в Тригорском! Анна! Как будто все эти буреломы и мертвые леса, все эти косые избы и волчьи ночи озарил мгновенный метеор. И вот он уже скачет через ночь, он видит только ее глаза во тьме – ее сияющие слезами и любовью зеленоватые глубокие глаза. Он мог бы упасть с седла и умереть от одного удара в сердце. Где-нибудь здесь, у трех сосен на берегу озера Маленец или около песчаного косогора. И в тысячную долю мгновения этой смерти он был бы истинно счастлив. Этот сон о Пушкине или, как говорили в старину, – “видение”, так крепко вошел в меня, что я часто видел его наяву и мог бы описать во всех простых чертах – от зимнего ветра, бьющего Пушкину в глаза, до огней в доме Осиповых, играющих в обледенелых стеклах» [Паустовский 1963a, 112].
Во время странствий и общения с писателями повествователь еще раз убеждается, что Пушкин остается высочайшим образцом поэтического совершенства даже после периода творческих экспериментов, начавшегося в Серебряном веке и продолжавшегося до 1920-х гг.
Начитанный молодой инженер Габуния («Пламенная Колхида») в разговоре с главным героем цитирует строки из «Открытия Америки» Н.С. Гумилева:
Мы с тобою, Муза, быстроноги,
Любим ивы вдоль степной дороги… [Паустовский 1963b, 76].
При этом герой убежден, что «самая быстроногая муза – это муза Пушкина» [Паустовский 1963b, 76]. Максим Горький, с одобрением отзываясь об интересе повествователя к современным поэтам, говорит ему: «А я все-таки больше всего люблю Пушкина. “Буря мглою небо кроет”. Помните? “Выпьем, добрая подружка бедной юности моей”» [Паустовский 1963b, 88].
Изучение машинописей «Книги скитаний» из архива журнала «Новый мир» помогло нам выяснить, что в изначальном варианте объем текста, посвященного Пушкину, был значительно больше, а сама тема раскрывалась многостороннее и глубже, чем в опубликованном варианте. В начале писательского пути главного героя Пушкин – первый наставник, в переломные моменты истории – мудрый советчик, а в эпоху репрессий – высочайший образец гражданского мужества и внутренней свободы. Обращение к памяти поэта и его стихам помогает состояться в литературе, не предать себя и свой талант.
На примере изучения конкретной темы можно составить и общее представление о том, какие изменения претерпевал текст «Книги скитаний». Излишне острые, идеологически «неправильные» и просто не понравившиеся строки вызывали подозрение у редактора (простой карандаш). Паустовский (в данном случае – синяя ручка) в отдельных случаях боролся за сохранение фрагмента, пускай и в урезанном виде, в других – соглашался на исключение строк и целых абзацев, видимо, из стремления сохранить произведение. Дальнейшее изучение машинописей и графологический анализ помогут более детально восстановить творческую и публикационную историю произведения.
Список литературы Пушкинская тема в авторском варианте шестой части "повести о жизни" К.Г Паустовского - "На медленном огне (книга скитаний)"
- Андреева В.Г. Связь категории «старость» и усадебных образов в рассказах К.Г. Паустовского 1930-1960-х гг. // Творческое наследие Константина Паустовского в XXI веке: Сб. научных статей. Вып. 2 / отв. ред. М.В. Скороходов. М.: МАКС-Пресс, 2023. С. 72-83.
- Баратынский Е.А. Полное собрание стихотворений. Т. 1. Л.: Советский писатель, 1936. 366 с.
- Михаленко Н.В. Топос творчества в произведениях К.Г. Паустовского // Вестник славянских культур. 2023. Т. 69. С. 217-223.
- Парчевская И.Ю. Писатель и музей. К.Г. Паустовский в Михайловском // Материалы Михайловских Пушкинских чтений: «Описывай не мудрствуя лукаво. Войну и мир.» (20-24 августа 2014 года): Сб. ст. / ред. Л.А. Токарева. Вып. 66. Сельцо Михайловское: Пушкинский заповедник, 2015. С. 120-130.
- (а) Паустовский К.Г. Книга скитаний // Новый мир. 1963. № 10. С. 63-118.
- (Ь) Паустовский К.Г. Книга скитаний // Новый мир. 1963. № 11. С. 33-88.
- (с) Паустовский К.Г. Книга скитаний // РГАЛИ. Ф. 1702 («Новый мир»). Оп. 10. Ед. хр. 860.
- (ф Паустовский К.Г. Ночные поезда // Литературная газета. 1963. 23 марта. № 36. С. 3-4.
- Паустовский К.Г. Собрание сочинений: в 9 т. Т. 9. М.: Художественная литература, 1986. 542 с.
- (е) Паустовский К.Г. Старинная карта // Вокруг света. 1963. № 10. Октябрь. С. 22-27.
- Паустовский К.Г. Наедине с осенью: Портреты, воспоминания, очерки. 2-е изд., доп. М.: Советский писатель, 1972. 448 с.
- Пушкин А.С. Стихотворения. СПб.: Наука, 1997. 640 с.
- Семенова Н.В. Пушкинские торжества 1949 года и пьеса К.Г. Паустовского «Наш современник» // Текст. Книга. Книгоиздание. 2023. № 31. С. 25-46.
- Эллинские поэты УП-Ш вв. до н.э. Эпос. Элегия. Ямбы. Мелика / отв. ред. М.Л. Гаспаров. М.: Ладомир, 1999. 516 с.