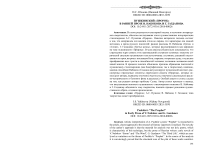Пушкинский "пророк" в ранней прозе В. Набокова и Г. Газданова
Автор: Юхнова Ирина Сергеевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (45), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье реализуется кластерный подход к изучению литературных сверхтекстов, объектом исследования стали художественные интерпретации стихотворения А.С. Пушкина «Пророк». Новизна авторского подхода состоит в том, что материалом для анализа стала не лирика, что характерно для данной методики, а проза русских писателей: ранние рассказы В. Набокова «Гроза» и «Слово», Г. Газданова «Третья жизнь», которые рассматриваются как вариации на тему пушкинского «Пророка». В ходе анализа убедительно доказывается, что структурное ядро сюжета этих произведений составили основные элементы лирической ситуации пушкинского текста-источника: состояние душевной опустошенности героя, встреча с посланцем Бога; озарение, потрясшее душу, и чудесное преображение всех чувств и способностей человека; осознание человеком своей новой миссии. В процессе анализа объяснены причины обращения писателей к пушкинскому стихотворению (как биографические, так и творческие), показано, какими способами Набоков и Газданов актуализируют пушкинский контекст, рассмотрены структурные элементы лирического сюжета «Пророка», которые используют авторы, выявлены отличия (в частности, отмечено усиление роли реально-исторического и бытового фона в рассказах). Особый акцент в статье сделан на том, как решают авторы проблему Слова. Автор статьи приходит к выводу, что актуализация контекста пушкинского стихотворения позволяет В. Набокову и Г. Газданову обозначить тему творчества, показать процесс рождения художественного образа, создания произведения.
"пророк", а.с. пушкин, в. набоков, г. газданов, тема творчества, сюжет преображения
Короткий адрес: https://sciup.org/14914706
IDR: 14914706 | DOI: 10.24411/2072-9316-2018-00026
Текст научной статьи Пушкинский "пророк" в ранней прозе В. Набокова и Г. Газданова
В последнее время при анализе лирики XIX-XX вв. все чаще вместо жанрового используют кластерный подход, который позволяет рассматривать ряд произведений разных авторов как некое формально-смысловое единство. А.К. Жолковский, который и вводит понятие «кластера», определяет его как «пучок тематических и формальных характеристик, обладающих мощной способностью к самовоспроизводству во множестве более поздних текстов» [Жолковский 2005, 396]. О.В. Зырянов, анализируя в одной из своих последних работ ряд стихотворений, генетически восходящих к пушкинскому «Пророку», рассматривает «кластер как систему формально-содержательных признаков [которые позволяют] в реальной практике литературоведческого анализа идентифицировать те или иные сверхтекстовые единства, за которыми приоткрывается смысловой универсум целой серии текстов, по сути, некий устоявшийся в поэтической традиции рецептивный цикл» [Зырянов 2013, 45], и использует понятие «лирической ситуации», которое, по мнению исследователя, «наиболее полно выражает мотивную структуру произведения, ценностно-иерархическую систему смыслов, интенциональность лирического сознания» [Зырянов 2013, 45]. Ситуация в его трактовке оказывается многоаспектным понятием, т.к. позволяет рассмотреть целый ряд текстов (так называемый рецептивный цикл) с разных точек зрения: выявить генезис ситуации, осмыслить ее онтологический смысл и вычленить структурное ядро.
Как уже было сказано, данный подход оказался продуктивным при изучении лирики. Исследователи выделили и рассмотрели сверхтекстовые образования, восходящие к пушкинским стихотворениям «Я вас любил...», «Нереида» [Юхнова 2005, 119-122], державинской «Реке времен» [Зырянов 2015, 87-100], лермонтовской «Смерти поэта» [Юхнова 2013, 98-101]. О бессоннице как «тематическом жанроиде» писала Е.М. Та-борисская в статье 1999 г, и данное определение свидетельствует о потребности в термине, обозначающем подобное сверхтекстовое единство [Таборисская 1999, 224-235]. Тому, что именно лирика рассматривается в подобном ключе, есть множество причин, одна из которых связана с тем, что в XIX в. в лирике начинается процесс разрушения традиционных жанровых форм и вместе с тем появляется целый ряд произведений, восходящих к одному источнику, вступающих с ним в диалог. И таким источником становится не только поэтическая антология, т.е. лирика античных авторов, но и произведения поэтов-современников. Проза, как правило, в русле данного подхода не рассматривалась, однако в XX в. намечается тенденция, когда и в основе сюжета прозаического произведения (прежде всего это касается произведений малых форм) лежит ситуация, восходящая к некоему лирическому претексту когда воссоздается его структурное ядро, образный строй, получает развитие тема, актуальная для текста-источника. При этом сам текст-источник должен обладать высокой опознаваемостью, считываться при наличии минимального количества маркирующих его средств. Таким стихотворением в русской литературе стал пушкинский «Пророк». Это не случайно, т.к. «Пророки» Пушкина и Лермонтова, по словам ГВ. Москвина, «составляют для русской мысли базовую парадигму в той части, что касается духовной эволюции и деятельности человека» [Москвин 2016, 240].
Художественная рефлексия по поводу пушкинского «Пророка» в русской прозе XX в. осуществлялась в разных формах. А. Битов, например, включил в роман «Пушкинский Дом» развернутый пересказ статьи Левы Одоевцева «Три “Пророка”», в которой рассматриваются стихотворения Пушкина, Лермонтова, Тютчева, представляется некая филологическая концепция о том, какую роль обращение к образу пророка играет в судьбе этих поэтов, но вместе с тем эта статья становится «автопортретом» самого Левы (а как известно, автопортрет - это то, каким художник себя видит, осознает), который как бы помещает себя в круг гениев. В этом романе пушкинское стихотворение становится предметом прямой научной, читательской рефлексии. Но есть примеры и более утонченных форм диалога с пушкинским стихотворением, когда оно не просто является импульсом к созданию нового произведения, представляющего собой явные «вариации на тему» пушкинского «Пророка», но когда воссоздается сама его лирическая ситуация, а наряду с реально-бытовым планом в произведении начинает проступать онтологический, символический смысл. Тем самым оно приобретает многоплановость, а сюжетная ситуация перестает быть просто случаем из жизни, происшествием - в ней обозначается метафизический план, т.к. воссоздается момент рождения творческой личности, осознания личностью себя как творца, как художника. Что, собственно, и составляет структурное ядро лирической ситуации пушкинского «Пророка».
Именно в этом видят ее смысл многие исследователи. Так, С.М. Бонди выделял в «Пророке» такие структурные элементы - «душевная опустошенность», «чудесное преображение всех чувств и способностей пророка, которое совершает посланец бога», «новая задача, новая миссия преображенного, обновленного душой и телом пророка...» [Бонди 1978, 5-168]. Заметим попутно, что исследователи не раз пытались объяснить появление этого стихотворения некими биографическими факторами. Так, у М.О. Гершензона читаем: «Мицкевич несомненно был прав, когда назвал “Пророка” Пушкина его автобиографическим признанием. Недаром в “Пророке” рассказ ведется от первого лица; Пушкин никогда не обманывал. Очевидно, в жизни Пушкина был такой опыт внезапного преображения» [Гершензон 1997, 15]. Об этом же пишет и В.С. Непомнящий: «С “Пророком”, очевидно, связано было какое-то ослепительное озарение, потрясшее душу и интеллект: не “мысль”, не “идея”, но именно переживание, по содержанию своему и мощи не умещавшееся ни в понятийные, ни даже в привычные «поэтические» формы, выразимое только на языке мифа» [Непомнящий 2001, 113-114]. При этом В.С. Непомнящий обращает внимание на одну особенность всех интерпретаций пушкинского стихотворения: «Обычно главное место мы отводим судьбе самого героя стихотворения - тому, что с ним происходит. Но ведь это только часть сказанного; ясно, что происходящая с томимым “духовной жаждой” захватывающая и устрашающая метаморфоза важна не только для него и не сама по себе - а тем, ради чего она происходит. Но об этом обычно говорится в общих словах, хотя это и есть самое главное: ради чего» [Непомнящий 2001, 112]. Собственно, об этом пишет в уже упоминаемой статье о «Пророках» Пушкина и Лермонтова ГВ. Москвин. Он так формулирует тему пушкинского «Пророка» - «духовное преображение человека и возвещение его назначения в мире» [Москвин 2016, 240], и далее делает очень тонкое наблюдение: «Структура стихотворения (начальная ситуация, ее развитие и - что очень важно - не некий итог, а продолжение, выходящее за пределы текста) полностью соотнесена с идеей восходящего пути человека к Пророку и истине» [Москвин 2016, 240]. Наличие того, что есть в тексте, и того, что выходит за его пределы, по сути, и является основой лирической ситуации: Пушкин изображает не пророческое служение как таковое, когда происходит возвещение миру неких истин, не взаимодействие пророка с обществом через слово, а преображение, переживание состояния «ослепительного озарения», «внезапного преображения», когда рождается новая сущность, готовность к тому, что именно этот дар и становится твоей судьбой со всеми вытекающими из этого последствиями.
В русской литературе XX в. переживание подобного «ослепительного озарения» и рождение нового внутреннего состояния становится основной коллизией в рассказах В. Набокова «Слово» (1923) и «Гроза» (1924) и Г. Газданова «Третья жизнь» (1932). Сама параллель «Набоков-Газда-нов» не случайна. Сравнение позиций, художественных систем этих двух писателей стало чем-то вроде общего места в исследованиях литературы русского зарубежья. И обращение к пушкинскому стихотворению в переломные моменты жизни писателей вряд ли является случайным.
Оба рассказа Набокова исследователи относят к нетипичным для творчества писателя, т.к. в них происходит обращение в Священному писанию, при том, что, как замечает И.В. Мотеюнайте, «Библия не была для писателя учебником жизни и настольным чтением» [Мотеюнайте 2016, 38].
Сразу уточним, что у Набокова происходит совмещение (наложение) двух сюжетов: сюжета Священного Писания и сюжета пушкинского стихотворения. В результате «значимость собственно Священного Писания <.. > у Набокова снижена: оно является одним из пластов, составляющих текст культуры» [Мотеюнайте 2016, 39].
Обычно говорят о «лабораторное™» этих рассказов, их рациональности, сделанности, когда писателем сознательно осваивается тот или иной художественный прием. Вместе с тем появление сюжета преображения в творчестве Набокова именно этого периода не случайно. В 1922 г. погибает его отец. В начале 1923 г. расторгнута помолвка со Светланой Зиверт, т.к. родители невесты не уверены, что не имеющий постоянной работы Набоков сможет обеспечить семью. При этом Набоков печатается в берлинских изданиях, те. определяется его путь как профессионального писателя. По сути, Набоков находится на некоем духовном перепутье. Утрата родины, влюбленность, творчество - все это и составляет биографический контекст рассказов. Вступая в диалог с пушкинским «Пророком», Набоков «подстраивает» этот сюжет под свой духовный опыт. И следствием этого становится то, что не реализованной оказывается главная особенность пушкинского произведения - та, которую В.С. Непомнящий называет «языком мифа». Набоков лишает сюжет мифической основы (оставляя мифологическую). В «Слове» происходящее с героем - сон (рассказ так и начинается: «Унесенный из дольней ночи вдохновенным ветром сновиденья, я стоял на краю дороги...» [Набоков 1999, I, 32]), в «Грозе» история с Ильей-пророком появляется после фразы: «В этой тишине я заснул, ослабев от счастия, о котором писать не умею, - и сон мой был полон тобой» [Набоков 1999,1, 147], - и хотя затем следует пробуждение героя, все же «гроза с падением Ильи во двор в рассказе Набокова может быть воспринята и как видение, игра воображения рассказчика» [Мотеюнайте 2016, 39]. Характерно, что даже внешнее впечатление от Ильи-пророка двойственно: то он предстает как «громовержец, седой исполин, с бурной бородою, закинутой ветром за плечо, в ослепительном, летучем облачении», «напряженным руками сдерживающий гигантских коней» [Набоков 1999,1, 148], то как «сутулый, тощий старик в промокшей рясе», который «бормотал что-то, посматривая по сторонам» [Набоков 1999,1, 149], «топал тупыми сандалиями по лужам, и с кончика крупного костистого носа свисала светлая капля» [Набоков 1999,1, 149].
В рассказах Набокова более подробным и конкретным, в отличие от пушкинского стихотворения, оказывается реально-исторический и бытовой фон. Он не прописан отчетливо, часто только намечен, но считывается. В «Слове» - это трагедия утраты родины и оценка происходящего в ней: «.. .моя страна, умирающая в тяжких мороках» [Набоков 1999,1, 33], «.. .я стал рассказывать свою скорбь. Хотелось мне объяснить, как прекрасна моя страна и как страшен ее черный обморок, но нужных слов я не находил» [Набоков 1999,1, 34]. В «Грозе» включены бытовые подробности из жизни героя: его хозяйка - «неопрятная вдова», он видит из окна вывеску парикмахерской, вспоминает о белокурой тучной женщине, собирающей подаяние пением... Проступают в рассказе и некоторые реалии эмигрантской жизни. Таким образом, Набоков в «Грозе» обытовляет происходящее с героем, а сама ситуация вырастает из обыденной, повседневной жизни. То, что с ним происходит, - случай, а не закономерный итог духовных исканий. Герой и не пребывает в состоянии «духовной жажды», которое является исходным у Пушкина. В «Грозе» его состояние принципиально иное - он переживает что-то вроде эмоционального подъема.
Не реализован в этом рассказе и такой мотив, как одиночество пророка. В.С. Непомнящий говорит о нем как об основном качестве пушкинского пророка. Но это одиночество - не изоляция, т.к. пророк открыт миру, бытию (чему и служат новые органы чувств, позволяющие качественно по-иному воспринимать происходящее в мире и откликаться на него), он обращен к людям, обречен на жизнь вне себя.
Герой Набокова идет не «глаголом жечь сердца людей», а делиться глубоко личным переживанием. И не во всем миром, а с одним человеком (ему важна персональная адресованность, вместе с тем то, что изливается из него, и есть творческий акт - рождение рассказа).
Таким образом, для Набокова в «Грозе» важен момент встречи с чудесным, божественным, странным, о чем можно рассказать, а не факт внутреннего преображения.
Иначе решена данная коллизия в рассказе «Слово». Исходная ситуация одновременно и тождественна, и контрастна. Здесь также сон, вот только сон не становится явью, не выливается в творческое действие. Во сне герой переживает состояние внутреннего катарсиса, т.к. обретает истинное понимание настоящего и будущего своей страны и своего положения, к нему приходит осознание, что возврата на родину нет, а прежней России не будет. Сон появляется в момент духовного перепутья и как бы завершает его, т.к. в его процессе приходит то новое понимание своей судьбы, которое определит жизненные цели.
И второй существенный момент: действие сна разворачивается в раю -т.е. оно дважды вынесено за пределы реальности, в которой существует герой. Именно в раю возможно обретение того слова, которое способно спасти его страну «от черного морока» [Набоков 1999,1, 34]. Т.е. изначально герой по-пушкински верит в действенность слова, в его способность влиять на жизнь. Он верит, что словом можно изменить мир, вернуть историю в прежнее русло, верит во врачующую силу слова, но финал рассказа не оставляет на это надежды. О.А. Дмитренко трактует его как «ироничный отказ Набокова от претензий на роль пророка» [Дмитренко 2014, 32], хотя указывает на возможность иных интерпретаций, а ситуацию в целом воспринимает как ситуацию преображения. Но вот происходит ли оно? То, что Набоков акцентирует ситуацию сна (у Пушкина, как мы помним, происходящее с пророком - реальность), позволяет ему обнажить подсознание героя. То, что он не может принять наяву, в чем боится признаться себе (обратного пути домой нет, Россия не будет прежней), осознает во сне. А потому утрата слова, способного изменить мир, - закономерность.
В рассказе не реализована ситуация преображения еще и потому, что внутренне герой в начале и конце произведения равен себе. Его исходное состояние если и меняется, то не сущностно, как происходит, когда формируется другая личность, - в сознании героя лишь окончательно оформляется то, что уже присутствовало в нем изначально, - невозможность изменить свою судьбу, судьбу своей страны, мир словом.
И еще один смысл прочитывается в финале. По сути, сюжет рассказа -это муки творца, не способного найти единственно возможное и верное слово, облечь в осязаемую форму то, что ищет выхода, ищет своего названия. Те. свое развитие получает та традиция в русской литературе, которая вырастает из стихотворения В .А. Жуковского «Невыразимое».
Таким образом, при обращении Набокова к сюжету «Пророка» срабатывает тот же самый механизм, что и при выборе того или иного жанра, когда тема, задача определяли выбор формы, в которой они будут выражены. Набоков использовал структуру пушкинского стихотворения для решения вполне определенных художественных задач, - дать свое понимание темы творчества, изобразить логику творческого процесса.
Набоков, вступая в диалог с Пушкиным, полемизируя с ним, использует и другие структурные элементы стихотворения «Пророк» (вспомним лабораторную природу рассказа). В «Слове» архаизирует лексику, дает аллюзию на первоисточник через искаженную цитату, уже первой фразой намекая на пушкинский текст («дольней ночи»). Но важнее другое - он воссоздает такие особенности пространственной организации «Пророка», как «вертикальный разрез мира» [Непомнящий 2001, 206] и «концентрический мир стихотворения»: «Один круг - от полета ангелов до “гад морских”. Другой - от “неба содроганья” до неслышного прорастания лозы. В центре же - человек; а над всем - “Бога глас”, обращенный к человеку и призывающий обращаться к человеку. Выходит - весь мир, все, что в нем есть, горнее и дольнее, и гремящий над ним “Бога глас” - все это устремлено в человеку, к сердцам людей» [Непомнящий 2001, 115]. В «Грозе» они реализуются через систему повторений (рассказ строится по принципу русской докучной сказки, когда его конец становится началом для нового этапа воспроизведения одной и той же истории), а также через принцип цикличности и мотив круга / колеса.
Пушкинская основа проступает и в рассказе Г. Газданова «Третья жизнь». Его по времени первой публикации датируют 1932 г. Существуют две рукописи этого произведения - обе без даты, в одной из них рассказу предпослан эпиграф из стихотворения А.С. Пушкина «Дар напрасный, дар случайный»: «Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал?» [Газданов 2009, II, 715]. В 1932 г. Г. Газданов становится членом масонской ложи, с этим событием исследователи и связывают появление данного произведения. Но масонский ключ к прочтению не единственный: в рассказе выявляются и другие - собственно художественные - смыслы.
Как известно, «Третья жизнь» была опубликована одновременно с романами «Вечер у Клэр», «Призрак Александра Вольфа», «Возвращение Будды» и потому воспринималась как «своеобразный пролог» к ним, «ключ ко всей романной трилогии» [Сваровская 2004, 124]. Ю.В. Бабичева в монографии о творчестве писателя так определяет художественную формулу «третьей жизни» Газданова - «движение души к самосознанию человека-творца» [Цит. по: Сваровская 2004, 124]. Т.е. происходящее с героем - это не мгновенное преображение, а последовательный и целенаправленный путь. Первоначально интуитивный, когда герой сам не осознает, что именно с ним происходит, постепенно этот путь приобретает целенаправленность и воспринимается как неизбежность, а само состояние, в которое погружается герой, становится предметом его самоанализа. Именно поэтому важна протяженность, процессуальность, этапность того внутреннего восхождения, которое он совершает. В этом контексте не случаен и главный композиционный принцип, реализуемый в повествовании, - «диалог героя-рассказчика с собственной памятью, выхватывающей из прошлого картины разных периодов жизни» [Сваровская 2004, 125].
Герой Газданова - творец («писал рассказы» [Газданов 2009, II, 371]), переживающий особые состояния («.. .ни обморок, ни сон, ни скудное забвение; это было как бы бесконечной душевной пропастью, подобной той, которая, наверное, предшествует смерти...» [Газданов 2009, II, 369]); в его сознании сплетены воображаемое и действительное; его влекут не отвлеченные предметы, а «простая, несложная жизнь». Он знает муки творчества и пребывает в состоянии внутренней неудовлетворенности тем, во что выливаются его творческие усилия: «...чувствовал себя машиной для запечатления происходящего» [Газданов 2009, II, 380].
В рассказе показан процесс формирования творческой личности - избранника («Мне суждено еще одно последнее знание, которого ни у кого нет и которое суждено только мне» [Газданов 2009, II, 371]), но одновременно с этим намечается еще один внутренний сюжет - сюжет рождения образа, т.к. основные этапы становления творческой личности совпадают с теми этапами, которые сопутствуют рождению художественного образа. Каждый раз, создавая мир нового произведения - новую художественную реальность, творец обречен снова и снова проходить этот путь.
В рассказе Газданова процесс творчества понимается как магический акт, который в буквальном смысле сопровождается физическими страданиями, метаморфозами, выпадением из реальности, особым эмоциональным и духовным состоянием, когда происходит встреча с Музой, а сам герой существует в нескольких реальностях.
Таким образом, и Набоков, и Газданов используют отсылку к пушкинскому «Пророку», чтобы обозначить тему творчества, рождения творческого дара, но им нужна мотивировка, объясняющая то особое состояние, при котором происходит осознание дара. С этой целью Набоков использует ситуацию сна, а Газданов описывает те особые состояния, которые сопутствуют творчеству. Для обоих авторов актуален мотив преображения, а в рассказах намечается внутренний сюжет, связанный с рефлексией по

поводу природы художественного слова.
Список литературы Пушкинский "пророк" в ранней прозе В. Набокова и Г. Газданова
- Бонди С.М. Рождение реализма в творчестве А.С. Пушкина//Бонди С.М. О Пушкине. Статьи и исследования. М., 1978. С. 5-168.
- Дмитренко О.А. Мифопоэтика ранних рассказов В.В. Набокова//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2014. № 1. С. 30-34.
- Жолковский А.К. Интертекстуальное потомство «Я вас любил…» Пушкина//Жолковский А.К. Избранные статьи о русской поэзии: инварианты, структуры, стратегии, интертексты. М., 2005. С. 46-59.
- Зырянов О.В. Еще раз о лермонтовском «Пророке» (к проблеме кластерного подхода к лирическому интертексту)//Уральский филологический вестник. Серия: Русская классика: динамика художественных систем. 2013. № 1. С. 40-53.
- Зырянов О.В. «Река времен…» как сверхтекстовое образование в русской поэзии XIX-XX вв.//Уральский филологический вестник. Серия: Русская классика: динамика художественных систем. 2015. № 3. С. 87-100.
- Москвин Г.В. Пророк: таинство преображения и жажда истока (Пророческая тема в поэзии А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова)//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2016. № 2. С. 240-245.
- Мотеюнайте И.В. Библейская аллюзия в рассказе В.В. Набокова «Гроза»//Вестник Череповецкого государственного университета. 2016. № 2. С. 38-41.
- Непомнящий В.С. «Да ведают потомки православных». Пушкин. Россия. Мы. М., 2001.
- Сваровская А.С. «Третья жизнь» Гайто Газданова (Бабичева Ю.В. Гайто Газданов и творческие искания серебряного века. Вологда: Русь, 2002. 86 с.)//Вестник Томского государственного педагогического университета. Серия: Гуманитарные науки (Филология). 2004. Вып. 3 (40). С. 123-125.
- Таборисская Е.М. «Бессонницы» в русской лирике (К проблеме тематического жанроида)//Studia metrica et poetica. Памяти П.А. Руднева. СПб., 1999. С. 224-235.
- Юхнова И.С. Лирическая ситуация «смерть поэта» в творчестве Н.П. Огарева//Н.П. Огарев: историко-культурное измерение творческой личности. Саранск, 2013. С. 98-101.
- Юхнова И.С. Сюжет о купальщице в русской лирике//Experimenta lucifera. Вып. 2. Нижний Новгород, 2005. С. 119-122.