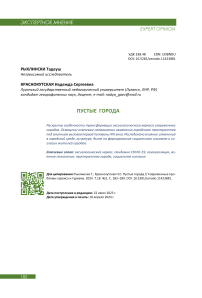Пустые города
Автор: Рыхлински Т., Краснокутская Н.С.
Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst
Рубрика: Экспертное мнение
Статья в выпуске: 1 т.18, 2024 года.
Бесплатный доступ
Раскрыты особенности трансформации аксиологического каркаса современных городов. Освещены ключевые направления изменения городского пространства под влиянием вызовов первой половины ХХІ века. Исследовано влияние изменений в городской среде, культуре, быте на формирование социального климата и согласия жителей городов.
Аксиологический каркас, пандемия covid-19, самоизоляция, военное положение, пространство города, социальное согласие
Короткий адрес: https://sciup.org/140305434
IDR: 140305434 | УДК: 338.48 | DOI: 10.5281/zenodo.11423881
Текст научной статьи Пустые города

Article History Disclosure statement
Received 22 July 2023 No potential conflict of interest
Accepted 10 April 2024 was reported by the author(s).
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit
Молчат пустые города, но путь мой только лишь туда...
Ника Турбина
Города всегда посылали нам свой культурный и исторический код. Созданные людьми и вобравшие в себя весь жизненный груз человечности, они всегда были центрами воссоздания личностного пространства и ретрансляции того людского потенциала, который был положен в основу их формирования в течение всех поколений жителей (Информация человечества / Собирается в слово Вечность. Ника Турбина [9]). В каждом из городов скрывался свой "Genius Loci1", каждый из городов был уникален и неповторим. Лица людей, походка, одежда, говорок жителей, душевные устремления, чаяния и переживания, даже самый темп жизни и ощущение закономерной завершённости, замкнутости пространства (город-то происходит от слов "городить", "огораживать") – вот основополагающие городские черты. В каждом из городов были наиболее посещаемые и любимые горожанами места (и это не обязательно центральные улицы или исторические памятники, это могли быть практически неощутимые приезжими элементы городской среды: вдруг ни с того ни с сего на совершенно невзрачной захудалой остановке общественного транспорта выходят почти все пассажиры), в каждом – свои приметы, поверия, модели поведения, тончайшие внутренние связи, причудливое хитросплетение неведомых нитей, дающих толчок одним событиям и ограничивающих иные безо всякой на то видимой причины. Города были наполнены смыслами и ценностями (конечно, тут не имеются в виду экзистенциальные ценности, а не золото, бриллианты или исторические реликвии), они имели веками сложившийся аксиологический каркас, они несли эмоциональную и личностную окраску, были сотканы из воспоминаний о различных ситуациях и событиях, из чаяний и надежд. Сравните города в знаменитой "Книге о разнообразии мира" Марко Поло [8]. Ни одного одинакового не найдёте! А попробуйте охватить масштабы и диковинные суггестивные проявления "Незримых городов" Итало Кальвиньо [4]. Так сразу и не выйдет. И ведь казалось, что так будет всегда.
Нет. Сейчас таких городов уже практически нет. Универсализация, единые стандарты поведения и потребления, последствия пандемии COVID-19 да ещё и военные события (последнее, в частности, применительно к городам Украины), сделали своё дело. Великий итальянский художник-метафизик Джорджо де Кирико (да и не только он), прозревая подобные изменения, создавал на своих полотнах пустые города. «Ностальгия по бесконечности» (1911), «Ностальгия поэта» (1914), «Метафизический интерьер» (1917), «Большая башня» (1921). Появление в 1914 году его "Меланхолии и тайны улиц ы2" , навеянное, безусловно, предчувствиями трагических событий Первой мировой, всеобъемлюще точно соединило в себе образы пустых городов XXI века, истощённых и опустошённых негородскими ценностями, войной, распадом связей времени и пространства, диссипацией отрешённого от городских судеб общества.
Города сейчас пусты. Города лишены своих извечных смыслов и своей манящей привлекательности. Нет, конечно, в городах остались люди. Ходит транспорт. Летят автомобили. Ставят оперные спектакли. Шумит вода в фонтанах. Но это уже не тот всепобеждающий извечный в своей могущественности темп, не та интенсивность, полнота и красочность жизни, не те ощущения силы, гармонии и комфорта одушевлённого преобразованного пространства, какие были раньше. В современных городах человек окончательно замкнулся в своём внутреннем мире, даже не пытаясь сохранить себя, как часть городского социума, свою идентичность, свою причастность к общественной жизни, свою внутреннюю сущность. Полный уход во внутреннюю эмиграцию, как любили говорить диссиденты 60-х гг., состоялся. Аксиологический каркас города почти полностью разрушился. И города опустели.
В городах уже нет привычного нескончаемого потока людей, нет постоянно нарастающего шума машин, зажатых в адской смеси коллапса автомагистралей (вспомните Токио образца 70-х гг. в фильме "Солярис" Андрея Тарковского или образ пылающей от огней машин и заводов улицы в стихотворении Маяковского "Адище города" [7]), нет привычных бесконечно ветвящихся подобно лианам социальных связей. И хотя в большинстве городов тяжёлые случаи заболевания COVID-19, равно как и случаи катастрофического разрушения зданий в результате военных действий на Украине всё ещё единичны, точечны, в массовом сознании они закрепились в единый продолжительный континуум, сформировавший образ неотвратимого неизбежного и приведший к смысловому онтологическому, социально-культурному, общественно-гражданскому и инженерно-техническому опустошению городов, даже, некоторым образом, к выходу их отдельных элементов за рамки Ойкумены.
Военные же события (ещё раз подчёркиваю, они очень схожи с пандемийными) опустошили не только города (я имею в виду не разрушения зданий и инфраструктуры, а, скорее всего, гибель общегородского объединяющего "Genius Loci"), но и контактную среду общения их жителей, сделали её выхолощенной, разделённой на протонные, мельчайшие, вызванные только острой необходимостью коммуникации. Каждый горожанин, основываясь на своём "личном опыте" и личном же "видении событий" (навеянных, преимущественно отрывочными репликами, почерп- нутыми из СМИ или из социальных сетей, нарочито примитивными и искусственно минимизированными, состоящими порой даже не из слов, а из их обрывков) строит свой собственный образ города, в котором нет места иным взглядам, мнениям, точкам зрения, нет даже возможности компромиссного диалога и поиска точек их соприкосновения. Виной тому стали, безусловно, невиданный рост индивидуализации и самоизоляции (заметим в скобках, а не была ли она предвестником войны, а?).
Но, кроме того, причиной стало ещё и отсутствие искренних, склонных к компромиссу собеседников в пустых городах. Радикализация при отсутствии социального диалога достигает невероятно гипертрофированных пределов. В борьбе между Genius Loci и Divide et Impera3 победит... Нет. Не будет победителей. Каждый удержит своё мнение при себе. Каждый будет бояться сообщить его другому, чтобы не нарваться на конфликт. Каждый в стремительном потоке событий забудет предыдущие из них вместе с теми ощущениями и суждениями, которые они в своё время навеяли. От них остаётся только тягостно щемящее чувство незавершённости, неси-стемности, ускользания чего-то здравого и важного, да ещё и страха перед грядущими опасностями. А когда этот страх ещё всячески поддерживается и культивируется... то... горожане будут шарахаться в стороны при наименьшем подозрительном шуме (гремит ли гром, работает ли рядом садовая техника и т.д.). Постоянное пребывание начеку вызывает ещё большее недоверие и неприятие окружающего. Что там, за углом зданий на пустых улицах Джорджо де Кирико? Что там, за углом, в метафизических городах Поля Дельво ("Приветствие" (1938), "Серый город" (1943), "Одиночество" (1956)), сотканных из жуткого вороха невероятно болезненных противоречий? Там одиночество. Экзистенциальное одиночество. Распад единства общественных отношений. Маргинализация замкну- тых наглухо в своих квартирах, обессилевших от постоянного напряжения и страхов, людей. Сравните все это с общим настроем романа «Там, внизу» (Down there, 1956) американского писателя Дэвида Гудиса [12]. Или с творчеством нашего современника Юрия Мамлеева «Живое кладбище» (1986), «После конца» (2011) [5; 6]. И вы вновь увидите пустые города.
Такая закрытость и самоизоляция не новость. Пандемия проходила по тем же лекалам. И в результате – полная диссипация общества. Его полная атомизация (про-тонность и беспомощность, локальная ме-стечковость (грубо говоря, хуторянство, которое сродни с глобальной глупостью), а также зависимость от центра. Divide et Impera. Но эта изоляция была и остаётся единственным способом для думающего человека сохранить свой мир, свою душу, тот свой изначальный личный посыл тем, кто не собирается меняться или прогибаться под современность (пандемийную, военную...). Да. Такие не могут найти себе большое количество единомышленников (в эпоху разделенности социальными сетями единомышленников вообще не может быть в принципе, каждый находится под индивидуальным влиянием бурлящего коктейля электронных социальных контактов). Да. Они беспомощны, маргинализированы и подавлены. Они деморализованы. Они особо остро ощущают испепеляющее влияние Ковида и войны на пустые города нового времени.
Война (равно как и пандемия) безусловно консолидирует на время (но на очень короткое время), казалось бы, совершенно несовместимых людей и совершенно противоположные по своим устремлениям социальные группы (ведь перед всеми встаёт единая опасность, понятная и ужасная для всех, неминуемо угрожающая всем, как рок, как предвестие всех фобий и кошмаров человеческих (см. картину Рене Магритта "Предвестье вечера")). Во время самого начала активных боевых действий мне, казалось бы, позвонили все, исключительно все абоненты из телефонной книжки моего сотового аппарата, чтобы осведомиться, как и что происходит, все ли живы-здоровы. А потом. Потом опять все разбежались, каждый в свой уход. Прошло совсем немного времени. И эфир опустел. Город опустел. Надолго. Со многими абонентами - навсегда. Кто-то, подчиняясь общему распропагандированному настрою, уехал в поисках лёгкой жизни за границу. Кто-то – подальше от городов, бомбёжек, блэкаутов и воздушных тревог – в невообразимо изолированные от всего внешнего мира, замкнутые своими, только им ведомыми, цикличными природными процессами локальности. А большинство – во внутреннюю эмиграцию, чтобы хранить и беречь разорванные в клочья, искалеченные и безвозвратно погибшие воспоминания пошлых лет.
Стирает каждый новый день в старой книжке записной Моих друзей московских адреса. И в Новый год не смеётся телефон в компании ночной,
А в трубке слышу я чужие голоса.
И. Тальков. Солнце уходит на Запад
Сейчас горожане усиленно прячутся от окружающей их реальности. Их чувства и нервы накалены до предела. При этом выплеснуть эмоции им некуда. Их голоса и лица искажены ненавистью, ужасом и фальшью. "Мы не боимся. Мы не боимся. Ничего не происходит. Подумаешь, делов-то. Скоро всё закончится". А в это время основы общественного согласия и благополучия продолжают стремительно разрушаться. Горожане посещают по нарочито надуманным предлогам ещё кое-где оставшиеся зрелища на разный вкус. Они делают вид, что беззаботно отдыхают в уютных укромных местах и ни о чем не думают. Лишь бы не видеть её. Эту страшную её (войну, пандемию, и т.д.). Но попробуй вызвать их на откровенность – у каждого всколыхнётся прямо-таки вулкан эмоций. Всё всплывает в памяти один диалог женщин средних лет (пусть уж они меня простят за откровенность), когда собеседница, идя вдоль пустой улицы, совершенно спокойным голосом сообщила своей подруге, что приобрела новый комплект нижнего белья, взамен изношенного: "Если ночью в дом попадут осколки ракеты, то меня хоть найдут в приличном виде" (как сродни это с переживаниями наших бабушек, прошедших войну!).
А переживания молодых людей, которые никогда не имели дело с военным ведомством?! Которые и стрелять-то, толком, не умеют и не желают. А страх заходить в лифт или в иное замкнутое пространство с посторонними людьми во время наивысшего пика заболеваний Ковид? Постоянное, фанатичное (порой параноидальное) использование средств индивидуальной защиты от вирусов? Вот из чего сотканы нынешние города. Что-то уходит в прошлое. Что-то остаётся и, наоборот, превалирует. Но, в конечном итоге, приводит только к одному – опустошению душ человеческих, распаду их привычного уклада жизни, деградации пространства городов. Горожане, напрямую столкнувшиеся с многомесячным блэкаутом (а это сейчас равносильно краху цивилизации) уже никогда не будут прежними. Сейчас, когда пишутся эти строчки, лето. Но в городах до сих пор ощущается дефицит батареек, аккумуляторов, переносных ламп, фонариков... Вера во всемогущество городской среды, в её комфортность, относительную безопасность и дружественность подорвана надолго, очень надолго. А тут ещё и воздушные тревоги, ночные "фейерверки" от военных событий, пожары, разрушения (пусть точечные, но разрушения) ...
В нынешних городах, практически лишённых возможности приобщения жителей к светочам классических произведений литературы и искусства (это как раз ещё в пандемию началось: электронные библиотеки, дистанционные концерты, виртуальные музеи, онлайн конференции) процветает изуверски садистская ярость и звериная бескомпромиссная мелочно мстительная ненависть ко всему чужому, привнесённому, вражескому. Не имея возможности полноценно воспринимать мысли и труды поэтов, мыслителей, художников, писателей, жители пустых городов опускаются до патологического нигилизма в своих суждениях, соседствующего с параноидальным цинизмом и запредельной саркастически-издевательской бесчувственной жестокостью. Один известный кинорежиссёр, лауреат премии "Оскар" назвал такую ситуацию "Романтика мерзости". Мысли и чаяния горожан направлены не на утверждение идеалов Добра, Красоты или Истины. Они ведут к ещё большему нагнетанию эмоциональной истерии, к тотальной непримиримости и разобщённости, как в ситуации с пандемией (вот, сосед над нашими масками язвил и подшучивал, а теперь слег под аппаратом ИВЛ4), так и в условиях военного времени. При этом сочувствие и понимание у горожан вызывают лишь те, кто резко и открыто критиковал и третировал других, кто был на той же волне нигилизма месте с ними, а теперь вдруг волею судеб оказался в сложной ситуации. Таким образом, традиционные аксиологические (ценностные) основы жизни в пустых городах разрушились или кардинально переменились.
Следует ещё добавить, раз уж мы сравниваем ключевые события начала 20-х гг. XXI века, что горожане, просидевшие длительное время в карантине, также не смогут быстро адаптироваться к условиям постковидной жизни. Они будут усиленно пытаться сохранить преимущества дистанционной работы, им будут милее обезличенные контакты в социальных сетях, они перестанут ощущать город, как некое единое целое. Город для них будет состоять из незначительных, плохо связанных между собой, унылых и стандартизированных фрагментов. А за их пределами всегда будет скрываться неведомая экзистенциаль- ная опасность. Вот так и замолкнут опустевшие города.
Что же остаётся нам, кроме того, чтобы фанатично бережно хранить осколки и ошмётки нашего, личного, некогда прекрасного и единого, заполненного событиями, встречами, расставаниями, общением, неурядицами, победами, а сейчас забытого и горько ненужного никому мира? Эти осколки уже не собрать, ошмётки не оживить. В них, в нас самих уже нет ни воли, ни стремления к жизни. Все унесла война и пандемия.
"Ибо всему свой срок, – миновала и для нас сказка: отказались от нас наши древние заступники, разбежались рыскучие звери, разлетелись вещие птицы, свернулись самобраные скатерти, поруганы молитвы и заклятия, иссохла Мать-Сыра-Земля, иссякли животворные ключи – и настал конец, предел Божьему прощению".
И. Бунин. Косцы. 1921 г.
Сто лет прошло. И всё верно.
Вот так свернулась и иссохла сама наша жизнь. В пустых городах. В их опустевших театрах. В кино. В книжных магазинах. В эфире. В музеях. В картинных галереях. Даже в Церкви. Тихо. Тихо. С общего безропотного молчания. А кто будет что говорить? Все ж на изоляции. Все скрываются от военных событий. Все собирают и в душе хранят мёртвые осколки ушедшего мира. Что заставит нас всех воспрянуть? Что может произойти в опустевшем, жестоко разобщённом и разрушенном мире?
"О, боги. Верните мне мой мир. Верните меня на Итаку".
Гомер. Одиссея
Пустые города. Внутренняя эмиграция. Внутренний мир отдельных домов и квартир. Который уже никому не нужен, а в ближайшем будущем, в связи с уходом хозяев, так и вообще перестанет существовать. Мне возразят: "А разве не хороша ли жизнь своим постоянным обновлением?" Да. Но обновление ли это? И хорошее ли оно? И мы, старые могикане, не находящие себе места в пустых городах, мы обречены? И уже окончательно. И с нами так одиноко и безнадёжно погибнет наше знание, наши мысли, надежды, чувства, чаяния?
"Запустение, окружающее нас, неописуемо, развалинам и могилам нет конца и счета: что осталось нам, кроме "Летийских Теней" и той "несрочной весны", к которой так "убедительно" призывают они нас?"
И. Бунин. Несрочная весна. 1923 г.
Post Scriptu m5
Оказавшись в новых условиях, города постоянно мимикрируют. Их сущность научилась причудливо трансформироваться. Их развитие при этом замыкается на выполнении несвойственных городам задач и функций. Пытаясь сохранить остатки комфорта и уюта, горожане сами того не осознавая разрушают до основания былой привычный уклад, темп и характер жизни, оставляя напоследок за собой лишь выхолощенные донельзя, обезличенные и стремительно хиреющие пустые города.
Вот, почитайте в завершение темы отрывок из отечественной фантастики о Пустой планете. Во время дождя её воды были переполнены рыбой. В солнечное время в небе летали прекрасные птицы. Во время пронизывающих ветров в степи кочевали дикие звери. Но планета была пуста. Её живые существа приспосабливались и видоизменялись в зависимости от условий существования, теряя свою сущность, свою личность, свою индивидуальность. Не то ли самое происходит в наших городах сейчас?
– И всё-таки, – сказал я, – заглянем на Пустую планету. Это загадка, а нет на свете ничего интереснее, чем разгадывать загадки.
И мы взяли курс на Пустую планету. Я подошёл к иллюминатору. Видно было, как Алиса, прикрывая голову плащом, бежит к озеру, как она черпает в нём воду ведёрком. Ещё раз, ещё… Вот она бежит обратно...
Алиса вбежала в кают-компанию и поставила ведёрко на стол... Она достала из ведра рыбу и бросила её на стол.
И тут же, у нас на глазах, произошло удивительное превращение. Рыбка раза два дёрнулась, взмахнула хвостом, и плавники начали превращаться в крылья, чешуя – в перья, и через минуту на столе уже прихорашивалась, оправляя перья, маленькая птичка...
Пока мы смотрели, разинув рты от изумления, на то, как рыба стала птицей, птица взмахнула крыльями и взлетела. Она ударилась о потолок кают-компании... и упала обратно на стол. И, упав, она стала превращаться снова. На этот раз исчезли перья, съёжились крылья, и перед нами оказался мышонок. Мышонок скользнул по ножке стола и исчез в углу...
– Живые существа принимают здесь такую форму, которая им наиболее удобна , – сказал я, – им не страшны ни ветры, ни дожди, ни солнце.
Кир Булычев.
Девочка с Земли. 1974 г.
Список литературы Пустые города
- Булычев К. Девочка с Земли. Мн., 1974. 288 с.
- Бунин И.А. Собрание сочинений: в 4 тт. М.: Правда, 1988. Т.3. 544 с.
- Гомер. Одиссея. М.: Правда, 1985. 319 с.
- Кальвино И. Незримые города. Замок скрещённых судеб: Избранное. К.: Лабиринт, 1997. 400 с.
- Мамлеев Ю. Живое кладбище: Авторский сб. М.: АСТ; Зебра Е, 2008. 352 с.
- Мамлеев Ю. Крылья ужаса: Романы. М.: АСТ; Зебра Е, 2008. 606 с.
- Турбина Н. Ступеньки вверх, ступеньки вниз… М.: Дом, 1991. 190 с.
- Турбина Н. Черновик: Первая книга стихов. М.: Молодая гвардия, 1984. 63 с.
- Поло М. Книга о разнообразии мира. СПб: Амфора, 1999. 380 с.
- Тальков И.В. Стихи, песни, воспоминания. М.: Эксмо, 2007. 384 с.
- Goodis D. Down There aka Shoot the Piano Player. Philadelphia, Pennsylvania (United States). Published by Vintage Crime / Black Lizard, 1956. 158 p.