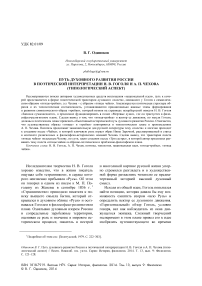Путь духовного развития России в поэтической интерпретации Н. В. Гоголя и А. П. Чехова (типологический аспект)
Автор: Одиноков Виктор Георгиевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение и текстология
Статья в выпуске: 9 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются поиски авторами художественных средств воплощения «национальной идеи», путь к которой представляется в форме гипотетической траектории духовного «полета», связанного у Гоголя с символическим образом «птицы-тройки», а у Чехова - с образом «птицы чайки». Анализируется поэтическая структура образов и их типологическая соотнесенность, устанавливаются принципиально важные этапы формирования и развития символического образа «тройки», который возник на страницах петербургской повести Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего», а продолжил функционировать в поэме «Мертвые души», где он трактуется в философско-религиозном плане. Сделан вывод о том, что «птица-тройка» и вектор ее движения, по мысли Гоголя, должны в поэтическом плане прояснить объективный исторический путь духовного развития России. Отмечается, что художественные образы «птицы» и «тройки» повторяются в типологическом плане в произведениях А. П. Чехова. Писатель продолжает знаменательную для русской литературы тему «полета» и логично приходит к созданию пьесы «Чайка», в которой ключевую роль играет образ Нины Заречной, рассматриваемый в статье в контексте религиозных и философски-исторических исканий Чехова. Сделан вывод, что траектория полета «птицы чайки» подсказала Чехову, по сути, идею создания пьесы «Три сестры», в которой автор продолжил развивать тему полета «птицы чайки» в образно-поэтическом и проблемно-философском плане.
Н. в. гоголь, а. п. чехов, поэтика, типология, национальная идея, "птица-тройка", "птица чайка"
Короткий адрес: https://sciup.org/147219188
IDR: 147219188 | УДК: 82.01/09
Текст научной статьи Путь духовного развития России в поэтической интерпретации Н. В. Гоголя и А. П. Чехова (типологический аспект)
Исследователям творчества Н. В. Гоголя хорошо известно, что в жизни писатель ощущал себя «странником», в сердце которого неизменно пребывала «Русь». Об этом он говорил в одном из писем к М. П. Погодину из Женевы в сентябре 1836 г. 1 «Странничество» приводило писателя к поиску высшего смысла бытия, который открывался в духовном облике «Руси» и осознавался Гоголем в философско-религиозном плане. Охватывая духовным взором Россию и сопредельные зарубежные территории, оценивая ее роль и значение в мировом историческом процессе, писатель в пестрой и многоликой картине русской жизни упорно стремился разглядеть и в художественной форме разъяснить читателю ее предначертанный историей высший духовный смысл.
Исходя из общей идеи, Гоголь попытался найти позицию, которая давала бы ему возможность охватить взором «всю Русь» и определить вектор ее духовного движения. «Горизонтальный» обзор Гоголь, условно говоря, вел как наблюдатель из окна движущегося экипажа. Сложный творческий эксперимент в этом плане привел его к идее изобразить путешествующего во времени и пространстве героя. Результат - грандиозный замысел и создание трехчастной «поэмы» «Мертвые души». Предметный «образ» коляски и универсальный мотив «движения» появились еще в циклах его рассказов, предшествующих поэме. Но когда возникла проблема «цели» движения, тогда в воображении писателя прорисовался образ «летящей птицы». Показательно, что на страницах «Записок сумасшедшего» появился только экипаж, запряженный тройкой лошадей («коней») и летящий с огромной скоростью, а эмблематичный образ «птицы-тройки» возник лишь в финале первого тома поэмы «Мертвые души».
В «Записках сумасшедшего» представлен следующий текст, носящий и отпечаток личности героя, и отпечаток авторской индивидуальности: «Спасите меня! Возьмите меня! Дайте мне тройку (курсив наш. - В. О. ) быстрых, как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвей-теся, кони, и несите меня с этого света!». Далее появляются конкретные детали, ха-растеризующие маршрут тройки : «.с одной стороны море, с другой Италия». Это вполне реальный, даже «заземленный» маршрут, без какого-либо мистико-религиозного оттенка, который «спрятан» в подтексте.
Следует обратить внимание на то, что маршрут перемещения героя имеет особый знаковый характер. Движение из Петербурга в Мадрид (который не упоминается в повести) представляет собой официальный дипломатический путь международного характера. И здесь никаких «загадок» нет. Сложнее обратный путь в Россию. Это движение с Запада на Восток. Знаменательна в этом плане траектория «движения». Первый важный пункт - Италия. Это уже «знак». Он скрывает (или, наоборот, обнаруживает) нигде в контексте пока не названный город «Рим».
Если посмотреть на географическую карту, можно увидеть следующий знаменательный пункт: магометанскую Турцию, которая в связи с угрожающим герою «петербургским магометанством» игнорируется и не упоминается на страницах его «дневника». Но рядом с «неназванным» Римом в контексте повествования логично возникает «неназванный» город Константинополь. Смысл этого «явления» заключается в том, что Константинополь в религиозно-историче- ском осмыслении предстает как «Второй Рим». В итоге герой попадает в «Московское царство», обозначенное писателем как «юг» России, где и заканчивается его «путешествие». Путь гоголевского героя знаменателен: из «Римского царства» - в «Московское царство». Логика такого движения очевидна: Москва в описанной системе предстает закономерно как «Третий Рим». Гоголь поставил на этом своеобразную точку, ибо было известно, что «Четвертому Риму» не бывать [Одиноков, 2014].
Но четко и ясно авторская сакральная идея обнаружится только тогда, когда Гоголь соединит мотив «тройки» с мотивом «летящей птицы». Эмблематичный образ «птицы» сольется с «тройкой» в финале первого тома поэмы «Мертвые души». В конце 11-й главы автор изображает едущего в коляске Чичикова. Имеет смысл обратить внимание на одну как бы совершенно незначительную деталь: «Чичиков только улыбался, словно подлётывая на своей кожаной подушке, ибо любил быструю езду.». Далее автор оставляет Чичикова «на земле», а свой взор направляет туда, куда Чичиков уже не мог «подлётывать». Это пространство той Руси, образ которой Гоголь носил в своем сердце. Следует знаменитая фраза: «И какой же русский не любит быстрой езды?»
Гоголь последовательно развивает эту тему. Быстрая езда героя поэмы трансформируется в понятие полета и предопределяет образ «птицы-тройки». В тексте функционирует такая фраза: «Кажется, неведомая сила подхватила тебя на крыло...». Гоголь фиксирует этот момент. Теперь все в поэтическом плане подготовлено к тому, чтобы появился образ «птицы», которая понесет земной «экипаж» в небесные сферы, открывающие провиденциальный смысл человеческого бытия. И автор завершает повествование своеобразной «одой» именно «птице-тройке», летящей по воздуху и «вдохновенной Богом».
Гоголь в лирической тональности объясняет значение такого «полета»: «.Летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства». Траектория полета «птицы-тройки» открывает читателю предполагаемый путь к национальной «русской идее», но не революционной, как это утверждалось в советском литературоведении, а «боговдохновенной». Сама тема «полета» в русской литературе окажется связанной с проблемой духовного возрождения человека. Можно отметить один показательный литературный факт: в рассказе Л. Н. Толстого «Утро помещика», остро ставящем социальные и моральные проблемы, вдруг предстает картина «полета», которая выступая как заключительный «аккорд», завершающий все повествование. Приведем этот текст: «И вот видит он во сне города: Киев с угодниками и толпами богомольцев, Ромен с купцами и товарами, видит Одест и далекое синее море с белыми парусами, и город Царьград с золотыми домами и белогрудыми, чернобровыми турчанками, куда он летит, поднявшись на каких-то невидимых крыльях. Он свободно и легко летит все дальше и дальше…». Толстовский герой находится в состоянии духовного взлета и душевного обновления. Характерно, что весь приведенный текст представляет собой описание полета персонажа во сне.
Гоголь-художник, прочерчивая траекторию полета «птицы-тройки», обретающей сакральный смысл, направляет ее движение в сторону России, на Восток, до государственной границы. Руководящим началом в этом движении, как отмечает автор, является Божественная воля. «След птицы тройки» в процессе ее «движения» обретает универсальный религиозно-философский смысл [Крюков, 2008].
Прослеживая в системе историко-литературного процесса дальнейшее развитие исторически и художественно сформировавшихся образов «птицы» и «тройки», мы закономерно приближаемся к такому творческому феномену, как литературное наследие еще одного «странника» с «Русью в сердце», к А. П. Чехову. Путешествие на Сахалин и обратно обострило его «страннические» чувства. И тема «полета» в его творчестве появилась так же органично, как у Гоголя. Первое, что обращает внимание исследователя в этом плане, – образнопоэтическая система пьесы «Чайка». Гоголевская тема «полета» и ее религиознонравственная подоплека проступают здесь совершенно очевидно. В литературоведении эти аспекты уже затрагивались и получали ту или иную интерпретацию. Сейчас возникает задача посмотреть, как соотносятся такие образы, как «птица-тройка» и «птица чайка».
Взгляд Гоголя-«странника» охватывает пространство всей России. И не только России. В «Записках сумасшедшего» автор отправляет «летящий» экипаж сначала в Европу, которая полностью дискредитируется в морально-духовном плане, а потом уже в Россию. И это главное. Закономерно возникает вопрос: «Русь! Куда же несешься ты? Дай ответ…». Ответ, по сути, должен быть связан с формулировкой понятия «русская идея». В этом плане у Гоголя имеется для читателя определяющая «подсказка». «Птица-тройка» летит, «вдохновенная Богом». Религиозный философ В. Соловьев писал, что, если обратиться к «вечным истинам религии», значение каждой нации предстает как «образ их бытия в вечной мысли Бога» [1989. С. 228].
На аналогичном основании Ф. М. Достоевский утверждал: «Я просто только говорю, что русская душа, что гений народа русского, может быть, наиболее способны, из всех народов вместить в себе идею всечеловеческого единства…» [1984. С. 131]. Эта идея была определена и закреплена термином «всеединство». Траектория гоголевской мысли была направлена именно в сторону этого смыслового комплекса. В нем и просматривается «русская идея».
Вслед за «птицей-тройкой» Гоголя в русской литературе громко заявляет о себе образ «птицы чайки», представленный А. П. Чеховым. Гоголевская тема «полета» и ее нравственно-религиозная подоплека проступают здесь со всей очевидностью. Чехов сливает в определенном смысле символический образ летящей по небесным просторам и рвущейся к свету птицы чайки с центральным женским образом пьесы – Ниной Заречной.
Заглавие пьесы заставляет читателя и зрителя найти соответствующий образ-характер в контексте пьесы. Таковым у Чехова является Нина Заречная, символически интерпретированная как «летящая птица». Но образ этот не однозначен. В отличие от Гоголя, автор «Чайки» осложнил траекторию творческого движения, духовного «полета» героини, введя образ «убитой чайки», с которым возможно сопоставление и образа Нины Заречной. Но эта версия в контексте пьесы опровергается, и «полет», условно говоря, продолжается. Философская сущность этого «движения» проступает в соотнесении его с упомянутой ранее идеей
«всеединства», которая в пьесе представляет «второй уровень» проблемной структуры произведения.
Идея «всеединства» могла быть почерпнута из самого «воздуха эпохи», но адресно она восходила у Чехова к религиознофилософской концепции В. Соловьева, который, как подчеркивает религиозный философ В. Зеньковский, считал, что «душа мира» есть и «“ единое всё ” – она занимает посредствующее место между множественностью живых существ и безусловным единством Божества» [1991. С. 45].
В пьесе «Чайка» о «мировой душе» в соловьевском смысле сказано «открытым текстом». Она фигурирует в драматургическом сочинении такого персонажа, как Константин Треплев, в монологе, который произносит Нина Заречная. Чехову хотелось, очевидно, обратить на эту деталь особое внимание, и он специально вложил в уста другого своего персонажа, доктора Дорна, следующую фразу, обращенную к Треплеву: «…Начинаешь верить, что в самом деле возможна одна мировая душа, вроде той, которую когда-то в вашей пьесе играла Нина Заречная».
Чехову, вероятно, нужно было выделить этот ключевой момент, который является кодовым в пьесе «Чайка» и открывает перспективу дальнейшего духовного развития героини. Траектории «полета» гоголевской «птицы- тройки» и чеховской «птицы чайки» сошлись в одной точке. Пережив многие неурядицы и жизненные драмы, Нина Заречная приходит к истинно христианскому, православному мироощущению и миропониманию, объективно утверждая тем самым авторскую мысль о неизменном торжестве русской национальной идеи, путь которой наметил не «буревестник», «черной молнии подобный», а парящая над морем «белая чайка».
Нина Заречная произносит: «…Главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а уменье терпеть. Умей нести свой крест и веруй». В связи с этим полезно обратиться к рассуждениям Ф. М. Достоевского в черновых заметках к роману «Преступление и наказание». Определяя «православное воззрение», автор романа пишет: «Человек не родится для счастья. Человек заслуживает свое счастье, и всегда страданием. Тут нет никакой несправедливости, ибо жизненное знание и сознание (т. е. непосредственно чувствуемое телом и духом, т.е. жизненным всем процессом) приобретается опытом pro и contra, которое нужно перетащить на себе» [1973. С. 155].
Именно такой вариант судьбы героини предлагает автор «Чайки». Ее жизнь складывается в пьесе из совокупности «случайных», «непреднамеренных» обстоятельств. Но за этой пестротой жизненных явлений просматривается авторская установка, суть которой – определить провиденциальный смысл духовного «движения» героини пьесы. Чехов ввел в контекст пьесы мотив «мировой души», который связан с духовной и душевной эволюцией Нины Заречной. При этом сам процесс преображения строится автором «Чайки» по принципу, выдвигаемому Вл. Соловьевым, который предполагал борьбу «Божественного Слова» с «адским началом» за власть над «мировой душой» и несомненную торжествующую победу «Божественного Слова» 2.
Символика в пьесе, порожденная соловьевской метафизикой, соприкасается с символикой «второго уровня», которая связана с «образом чайки». Нина отвергает «сюжет для небольшого рассказа» К. Треплева о мертвой, убитой «чайке». Путь к «мировой душе» связан с темой жизни, с темой свободного «полета», с преодолением всякой «мертвечины». Здесь Чехов следует непосредственно за Гоголем, за его «птицей-тройкой», летящей над землей и вдохновляемой Богом. Все эти значимые живописные штрихи создают, формируют контур «русской национальной идеи», рожденной, по выражению славянофилов, «народом-Богоносцем».
Это все так. Но куда исчезла гоголевская эмблематичная «тройка»? Нет, она не исчезла – Чехов этот образ «перекодировал», придав ему чисто религиозный смысл «троицы». Такая образно-семантическая модификация гоголевского образа, который уже имел в авторской интерпретации сакральный оттенок, предстала у Чехова на страницах пьесы «Три сестры». Впрочем, при первом знакомстве с текстом пьесы заглавие воспринимается в чисто светском ключе. Но обратим более пристальное внимание на число «три», сразу намекающее на сакральный смысл названного объекта, помеченного этой цифрой.
Разумеется, учитывая чеховскую ироническую манеру письма, не следует отяжелять эту деталь, нагружая ее фундаментальной философско-религиозной проблематикой. Сам Чехов выражал опасение, что он пишет какую-то «путаницу». Но эта «путаница» (система «художественных сцеплений», по определению Л. Н. Толстого) заключает в себе серьезную мысль. Она спровоцирована теми религиозно-философскими дискуссиями, которые возникали на волне всякого рода интеллектуальных новаций. Ведущей фигурой в этом контексте был Вл. Соловьев, к философии которого Чехов проявлял несомненный интерес, но имя которого он всуе не упоминал.
Известно, что одной из основополагающих идей философа-новатора была идея «софийности», которую Чехов художественно обыграл в пьесе «Чайка» [Одиноков, 2003. С. 244–258]. В «Трех сестрах» эта идея спрятана достаточно глубоко. «Семь восьмых» ее находятся «под водой». И только «одна восьмая» выступает на поверхности драматургического текста. Эта часть как раз и обозначена заглавием «Три сестры». Намек на сакральность смысла этого «коллективного образа» состоит в том, что отсылает реципиента к понятию триипостасности Бога, которое и проецировано религиозными философами на «образ-понятие» Софии, являющейся, по определению С. Булгакова, символом «Вечной Женственности» [Булгаков, 1999. С. 194]. Не вдаваясь в детали богословских интерпретаций понятия «Софии», отметим лишь «женский образ» чеховской «троицы», что ассоциативно связано с теми проблемами, которые обсуждались в связи с соотнесенностью трех Божественных ипостасей со спецификой характера ипостасности Софии. Чехов, конечно, только намекнул на указанную философско-религиозную проблему, но зато он четко выделил и единство своей «троицы», и ее центральное значение в идейнохудожественной концепции пьесы. Пафос пьесы в том, чтобы в сложном психологическом контексте утвердить духовную деятельность именно современного Чехову человека в перспективе движения к идеальному устройству мира, пророчески предсказанного Священным Писанием.
В этом контексте особое звучание получает мотив «движения», который обнаруживает себя в стремлении «трех сестер» обрести для себя город, в который они устремлены в своих мечтах. Город этот – Москва. Не нужно забывать, что национально-русское религиозное сознание определило для себя Москву как «Третий Рим» [Синицына, 1998].
Характерно, что Гоголь в «Записках сумасшедшего» направил «птицу-тройку» в сторону «Московского царства». У него она пролетает через Средиземное море в сторону Черного моря и следует далее. Путь ее проходит через такие пункты, которые хотя открыто и не названы, но четко проступают в контексте повествования. Пункты эти следующие: Рим, Константинополь и… Москва («Третий Рим»). В этом «метафизическом» пространстве чеховские «три сестры» и «встретились» с гоголевской «тройкой» где-то в пределах «Третьего Рима». Следовательно, «движение», как мы видим, писатель трактовал не как путь к революции, а как предсказанный в Священном Писании гипотетический путь в «тысячелетнее царство Христа», которое и явилось фундаментальной основой такого понятия, как «русская идея», поиски которой продолжаются до сегодняшнего дня.
Такова «траектория полета» творческой мысли Чехова, который объективно двигался по «следу» гоголевской «птицы-тройки». Чехов показывает, как бытовой план пьесы «мифологизируется» и обретает «мистери-альный» оттенок. Исследователь творчества Чехова Г. П. Бердников заметил: «Никогда до этого Чехову-драматургу не удавалось столь ярко нарисовать серую повседневность, как источник глубочайших драматических коллизий…» [1984. С. 425]. С этим нельзя не согласиться, но следует еще добавить, что творческие поиски Чехова-драматурга привели к формированию новой художественной системы, во многом предопределившей открытия грядущей литературной эпохи. След птицы-тройки не затерялся, движение продолжалось и продолжается в наше сложное время.
Список литературы Путь духовного развития России в поэтической интерпретации Н. В. Гоголя и А. П. Чехова (типологический аспект)
- Бердников Г. П. Чехов. Идейные и творческие искания. М., 1984.
- Булгаков С. Свет невечерний // Первообраз и образ. М.; СПб., 1999. Т. 1.
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1973. Т. 7.
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1984. Т. 26.
- Зеньковский В. В. История русской философии. Л., 1991. Т. 2, ч. 1.
- Золотусский И. Гоголь. М., 1979. (ЖЗЛ)
- Крюков В. М. След птицы тройки. М., 2008.
- Одиноков В. Г. Русские писатели XIX века и духовная культура. Новосибирск, 2003.
- Одиноков В. Г. Мотив «движения» в поэтике Н. В. Гоголя // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 2. С. 162-169.
- Синицына Н. В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV-XVI вв.). М., 1998.
- Соловьев В. С. Русская идея // Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 2.