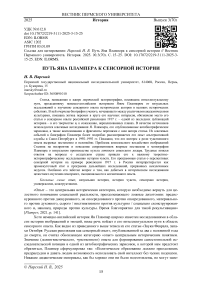Путь Яна Плампера к сенсорной истории
Автор: Нарский И.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История в поисках методологических ориентиров
Статья в выпуске: 3 (70), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья, написанная в жанре лирической историографии, посвящена интеллектуальному пути, проделанному немецко-английским историком Яном Плампером от визуальных исследований к изучению сенсорного опыта исторических акторов в великих исторических событиях. В ней очерчена биография ученого, кочевавшего между различными академическими культурами, показана логика перемен в круге его научных интересов, обозначено место его статьи о сенсорном опыте российской революции 1917 г. – одной из последних публикаций историка – в его творчестве и, к сожалению, нереализованных планах. В качестве источников используются ключевые исследования Я. Плампера, его опубликованные автобиографические зарисовки, а также воспоминания и фрагменты переписки с ним автора статьи. Из ключевых событий в биографии Плампера более подробно рассматривается его опыт альтернативной службы в Санкт-Петербурге в 1992–1993 гг. Показано, что его интерес к роли чувственного опыта вызревал постепенно и нелинейно. Проблема комплексного воздействия изображений Сталина на восприятие и поведение современников впервые поставлена в монографии Плампера о визуальном производстве культа личности советского лидера. Трудные поиски ответов на вопросы о солдатском страхе привели его к важному теоретико-историографическому исследованию истории чувств. Его программная статья о перспективах сенсорной истории на примере революции 1917 г. в России интерпретируется как промежуточный итог и программа дальнейших исследований, прерванных неизлечимым недугом. Особенно его заботил вопрос о том, как добиться в историческом исследовании целостного изучения сенсорного, эмоционального и когнитивного опыта.
Опыт, визуальная история, история чувств, сенсорная история, универсализм, конструктивизм
Короткий адрес: https://sciup.org/147252178
IDR: 147252178 | УДК: 39.612.8 | DOI: 10.17072/2219-3111-2025-3-15-25
Текст научной статьи Путь Яна Плампера к сенсорной истории
нить опыт, который дает жизнь» [ Plamper , 2005, S. 163]. Кроме того, Плампер реализовал свою «потребность переработать опыт личной научной миграции» [ Plamper , 2004 a , S. 877], издав проект «Переход границы в истории: научные культуры в международном сравнении». К нему он привлек десяток гуманитариев, которые в годы учебы или работы путешествовали между научными мирами, и поделился собственным опытом пребывания в качестве студента и ученого в США и Германии [ Plamper , 2004 b ].
Ниже, по ту сторону сухих фактов биографии и академической карьеры Я. Плампера, я попытаюсь на основе его собственных автобиографических свидетельств и созданных им научных текстов продемонстрировать, что его интерес к роли чувственного опыта вызревал постепенно и нелинейно. Его статья о перспективах сенсорной истории на примере революции 1917 г. в России, как будет показано, была промежуточным итогом и программой дальнейших исследований, прерванных неизлечимым недугом.
Жанр, избранный для конструирования интеллектуального пути Я. Плампера, также основан на категории «опыт». В свой рассказ я включу отсылки к собственным воспоминаниям. Мы с Яном были знакомы и общались около двух десятилетий, сохранившаяся у меня наша (неполная) электронная переписка насчитывает далеко за сотню сообщений. Мы обращались друг к другу за советом, обсуждали тексты, обменивались публикациями, встречались на конференциях и коллоквиумах. Ян Плампер участвовал в научных форумах и сборниках, соорга-низатором и соредактором которых был я, и наоборот. Мы видели и слышали друг друга, обменивались рукопожатиями, встречаясь регулярно, и объятиями после долгой разлуки. В мае 2023 г., за полгода до смерти Я. Плампера, я писал ему: «Я с еще большей силой и благодарностью вспоминаю другие времена и пространства, а также людей, которые их наполняли. И, конечно, наши встречи в Тюбингене, Берлине, Москве, Петербурге и Перми. Ты оказал мне огромную поддержку, дорогой Ян! Спасибо тебе за это огромное!»
Не следует, однако, видеть в моем тексте мемуары или некролог. Перед читателем – научное эссе в жанре заявленной и неоднократно практиковавшейся лирической историографии [ Нарский , 2012]. Ее особенностью является фигура активного автора, открыто опирающегося в исследовании на личный жизненный и профессиональный опыт как важный аналитический инструмент. В этом я не оригинален. Теоретически мой подход опирается на значение опыта в исследовании, обоснованное рядом философов [Там же, с. 62–64], в том числе опыта невербального, чувственного, которому Франклин Анкерсмит посвятил специальный труд [ Ан-керсмит , 2007]. В исследовательской практике я следую ряду этнологов и историков, прежде всего Карлу Шлёгелю, который превратил опыт своих многолетних путешествий по России в важный инструмент ремесла историка [ Schlögel , 2017].
***
Ян Плампер (1970–2023) вырос в Тюбингене, где в 1989 г. окончил гимназию им. Людвига Уланда. Затем он изучал историю в Брандейском университете (Массачусетс, США), получив там степень бакалавра. В 1993–1994 гг. Плампер проходил альтернативную службу в Санкт-Петербурге. Затем учился в Калифорнийском университете (Беркли, США), окончил магистратуру по истории (1997), интенсивно работал в российских архивах и готовил в Беркли под руководством Юрия Слезкина диссертацию о визуальном производстве культа личности Сталина, которую защитил в 2001 г.
В 2001–2008 гг. Ян Плампер был научным ассистентом и преподавал в Тюбингенском университете. В те годы я бывал частым гостем тамошнего Института восточно-европейской истории и страноведения. Там мы и познакомились вскоре после его возвращения из США. Невысокий молодой шатен с непокорной шевелюрой, внимательными светлыми глазами, чуткий слушатель с молниеносной реакцией, Ян владел искрометным чувством юмора и актерским даром подражания. Он бегло и без ошибок говорил по-русски с петербургским выговором. Его либерально-демократические политические и экологические позиции были непоколебимы, его позиция гражданина мира и стремление всеми силами содействовать преодолению критикуемого им провинциализма университетской науки в Германии – непреклонны и неутомимы.
Мы быстро сошлись. Я убежден, что от этого знакомства я получил больше, чем мой младший коллега. Он был чрезвычайно эрудирован и щедр на идеи. Думаю, не без его влияния я на несколько лет увлекся визуальной историей. Моя книга о семейной фотографии без участия Яна была бы другой. Этому имеется документальное подтверждение. В опубликованном в той книге исследовательском дневнике есть эпизод о моим выступлении перед тюбингенскими коллегами на тему «фотографического проекта». Есть там и такие строки: «В ноябре 2005-го по окончании моего доклада в Тюбингене и под конец дискуссии Ян Плампер попросил меня еще раз включить проектор и вышел к экрану. Указывая на проекцию горьковского фотопортрета, он обратил внимание на улыбку, позу и одежду мальчика: эти артефакты могут служить поводом, считал он, для бесконечного - и иного, чем в моем выступлении, - ряда историй: истории мимики и пантомимики, детства, моды, поколений, гендера. Как и Йохен Хелльбек в Берлине летом 2005 года, Ян настаивал на присутствии на горьковской фотографии не дореволюционной, а сталинской традиции: улыбка ребенка, по его мнению, является цитатой знаменитой фразы Сталина, произнесенной в 1935 году: “Жить стало лучше, жить стало веселее”. Ян порекомендовал мне обратить внимание на литературу, которая могла бы продвинуть мое исследование в этом направлении, за что я ему сердечно признателен» [ Нарский , 2008, с. 369-370].
Наше живое общение с Яном было наиболее интенсивным в 2001–2005 гг. После мои поездки в Тюбинген стали редкими и короткими. Круг российских коллег, которых поддерживал тюбингенский Институт восточно-европейской истории, стремительно расширялся, как и моя сеть научной коммуникации в Германии и за ее пределами. Ян Плампер в 2008 г. поменял место работы и жительства, став сотрудником Института Макса Планка в Берлине. В те годы его научная карьера складывалась успешно, настолько успешно, что Яну приходилось отказываться от параллельно выигранных грантов. Как он шутливо замечал, можно было бы пересаживаться с гранта на грант до самой пенсии.
Отвечать на вопрос, почему Ян Плампер не защитил в Германии второй диссертации, необходимой для получения профессорского места, и не выиграл конкурсов на профессорские позиции в Германии, не входит в мои задачи. Возможно, он стал жертвой провинциализма, против которого выступал. Как бы то ни было, с 2012 г. Ян работал в Великобритании, сохраняя прочные связи с коллегами в Германии и других странах. Он был профессор истории Гол-дсмитс-колледжа Лондонского университета, а в 2021 г. переехал в Ирландию, заняв позицию профессора истории в Лимерикском университете. Его планы на будущее были прерваны тяжелым онкологическим заболеванием, победить которое не удалось.
***
«Дорогой Игорь, прилагаю автобиографический очерк - может быть, будет интересно. (Я собираюсь умереть молодым, поэтому могу уже сейчас разрешить себе автобиографические этюды…) С большой радостью жду твои (биографические этюды) в нашем коллоквиуме». При чтении этих строк от 22 сентября 2005 г. сегодня, после ранней кончины Яна Плампера, сжимается сердце. Тогда эти слова звучали кокетством, которое может себе позволить молодость. Процитированные слова Яна были частью переписки о моем предстоящем докладе на коллоквиуме в Тюбингене, организация которого была возложена на молодого ассистента. Именно к этому выступлению относится эпизод с интерпретацией Яном детского фотоснимка, приведенный выше.
К письму была приложена автобиографическая публикация [ Plamper, 2005], на которой следует остановиться подробнее: она имеет прямое отношение к важной вехе в становлении исследовательских (и политических, на которых я останавливаться не буду) позиций Яна Плампера. Статья «Формирование жизнью: Акция “Примирение” в Санкт-Петербурге» посвящена пятнадцати месяцам безвыездной альтернативной службы Плампера с сентября 1992 по декабрь 1993 г. в Петербурге, куда он попал в качестве волонтера организации движения за мир «Акция “Примирение”». Молодой немец оказался в немногочисленной первой партии представителей организации в бывшем СССР, которая к тому времени уже 34 года помогала постра- давшим от нацистской оккупации гражданам Польши и Израиля. Советский Союз также значился среди стран – жертв оккупации, однако «Акция “Примирение”» к деятельности в СССР не допускалась. В день, когда Ян Плампер проходил отборочное собеседование – 20 августа 1991 г., – его желание отправиться на альтернативную службу в Советский Союз впервые оказалось выполнимым: еще накануне, в день антигорбачевского путча в Москве, неудача которого стала очевидной на следующий день, Пламперу бы отказали. «Я оказался в нужном месте в нужное время, в этом я убежден по сей день», – констатирует автор [Ibid., S. 164].
Основная задача Яна Плампера в Петербурге состояла в уходе за четырьмя пожилыми женщинами с трудной судьбой. Все они так или иначе пострадали от Большого террора в качестве «врагов народа» или их родственниц. Они научили Яна петербургскому русскому и многому другому. Как он сам выразился, «то, что четыре дамы, за которыми автор присматривал во время своей альтернативной службы в “Акции "Примирение"” в начале 1990-х годов, могли сказать о сталинизме и национал-социализме, находится в центре историографических дебатов десятилетие спустя» [Ibid., S. 163]. Помимо вживания в язык и российскую повседневность на первом году после гибели СССР, а также знакомства с исторической проблематикой, которая окажется в фокусе научной рефлексии значительно позже, можно назвать еще два приобретения, сделанных Плампером опытным путем.
Во-первых, жизнь в Санкт-Петербурге заменила ему отсутствующие восточноевропейские корни. Его интерес к России, рожденный в подростковом возрасте открытием русских романов XIX в., поддержанный недолго длившейся любовью к «Горби», как ласково именовали М. Горбачева западные немцы во второй половине 1980-х гг., знакомством с еврейскими эмигрантами в США и услышанными в их среде записями песен Владимира Высоцкого и Булата Окуджавы, в петербургский период обрел плоть и кровь. Ян Плампер открыл свою Россию, к которой испытывал эмпатию до конца жизни. «Это было одно из лучших времен в моей жизни», – признавался он [Ibid., S. 167].
Во-вторых, он обнаружил, как он выразился, «третий» Холокост. Знакомство с первым ‒ немецким ‒ видением Холокоста, в котором представление об ответственности и вине за массовое уничтожение евреев образовывало стержень коллективной коммеморативной культуры, состоялось в Тюбингене в 1980-е гг. Со «вторым» Холокостом Плампер столкнулся 16-летним гимназистом во время годового пребывания по обмену в США и знакомства с «живыми» евреями. Здесь гибель миллионов соплеменников тоже находилась в центре идентичности, будучи главным местом памяти и траура.
В Санкт-Петербурге Ян Плампер обнаружил, что Холокост для (пост)советских евреев оказался в тени массового террора эпохи сталинизма: «Эта третья встреча с евреями, после абстрактных, убитых в Германии, и живых в Америке, имела освобождающий эффект. Мне как историку она также помогла быстрее освободиться экзистенциально и в своем мышлении от эссенциализма и понять сконструированность различных коллективных идентичностей раньше, чем это могло бы произойти в любом другом случае» [Ibid., S. 168]. Альтернативная служба в Петербурге ускорила превращение Плампера в конструктивиста и сторонника опыта, в том числе до- и вневербального, чувственного опыта как орудия для конструирования своей идентичности и рабочего исследовательского инструмента.
***
«Женщина, упавшая в обморок при виде Сталина, писатель, пришедший в экстаз, очутившись рядом со Сталиным, будущий диссидент, замученный кошмарами об отравлении Сталина, жертвы жестокой сталинской политики, умирающие от сердечных приступов, услышав о смерти Сталина, ‒ все эти рассказы словно наполнены тайной, мистикой и трансценденцией» [ Плампер , 2010 а , с. 6].
Книга Яна Плампера «Алхимия власти. Культ Сталина в изобразительном искусстве» призвана решить множество загадок, в том числе странное поведение людей при виде живого вождя или его портретов. Автор приглашает читателя в увлекательное путешествие, которое готовил для него в течение многих лет неспешных размышлений, работы с разнообразнейшими источниками, обсуждения с самыми строгими специалистами, выступлений перед взыскательными аудиториями в разных странах мира, тщательной шлифовки блестящего текста: «Мы войдем в мастерские к художникам, заглянем к ним через плечо, познакомимся с их партийными покровителями, с функционерами от культа, с цензорами и со многими другими, участвовавшими с создании сталинского культа» [Там же, с. 6–7].
Отправной точкой книги о визуальных проявлениях культа личности Сталина стала диссертация Яна Плампера, защищенная в Беркли почти десятилетием раньше. О том, насколько российский книжный рынок в начале XXI в. врос и интернациональный, свидетельствует то обстоятельство, что авторизированный перевод книги на русский язык был опубликован раньше англоязычного оригинала в серии «Очерки визуальности» издательства «Новое литературное обозрение». Переводческая революция в постсоветской Российской Федерации приносила и такие плоды. Пусть и нечасто.
Здесь не место для развернутой рецензии на книгу Я. Плампера. Хочется обратить внимание на один аспект, интенсивно занимавший автора этой монографии, – комплексное и иррациональное воздействие изображений Сталина «на тела и умы, на разум и чувства людей из всех социальных слоев Советского Союза». Детективный поиск, расследование «улик» для разгадки этого феномена находят отражение и в названии книги, и в неоднократных эксплицитных обращениях автора к метафоре «алхимия власти». «Если алхимия – это “попытка превратить неблагородные металлы в золото”, – пишет он во “Введении”, – то и алхимия власти – это процесс превращения, в результате которого на свет явился Сталин, многократно превосходящий величием свой реальный прообраз и, по сути, нисколько на него не похожий» [Там же, с. 17].
В конце книги Я. Плампер вновь возвращается к темам иррационального в алхимии власти и тех границ познания, на которые наталкивается исследователь культа политического деятеля: «Ключ к алхимическому процессу – предположение, гласящее, что конечный результат является чем-то бóльшим, нежели сумма составных частей. Иными словами, налицо прибавка. Величие Сталина, грандиозность его фигуры и составляет подобную прибавку. И все же она носила иную природу. В конечном счете мы имеем дело с прибавкой непознаваемого. Она также неотделима от алхимии власти; это та прибавка, которая всегда остается за пределами постижения, сколько бы ни было написано книг на эту тему» [Там же, с. 350].
Вдохновленный книгой Яна, я писал о ее роли в развитии визуальных исследований: «Очень хорошо, что именно сейчас, когда история визуальности у нас только встает на ноги и пока еще вызывает у многих коллег недоуменное пожимание плечами, появилась книга о визуальной культуре сталинизма, являющаяся результатом не сиюминутной моды, а долгих поисков, неторопливых размышлений и до конца додуманных мыслей» [ Нарский , 2011, с. 207]. Тогда я не заметил очевидного сегодня: первая книга Яна Плампера содержала «алхимическую прибавку» не только к визуальной, но и к другой исследовательской проблеме – к истории эмоций.
***
«Антитезы “природа vs. культура” и “универсализм vs. coциальный конструктивизм” настолько сильны, что для того, чтобы их преодолеть, представителям целых научных дисциплин в полном составе понадобилось бы пройти через групповую психотерапию... Только на пресловутой кушетке психотерапевта можно было бы “проработать” идейное наследие XIX века и как-то с ним справиться. В этой книге я неоднократно предпринимал попытки как бы встать с кушетки, отворить окно и открыть вид на то, как будет выглядеть исследование эмоций после терапии, то есть после устранения дихотомии “универсализм vs. социальный конструктивизм”» [ Плампер , 2018, с. 14–15].
Эти строки из «Введения» в исследовании Я. Плампера об истории чувств пластично вводят в проблематику и стиль его работы, увидевшей свет в Германии в 2012 г., а в России – в 2018 и 2024 гг. В этой книге, сложной по поставленным задачам и блестящей по исполнению, Плампер преследовал две цели: дать историографический обзор стремительно развивавшейся в те годы истории эмоций и одновременно вмешаться в эту область, препарируя проблематичные зоны и анализируя перспективы дальнейшего развития. Подобно эквилибристу, Плампер на протяжении объемной монографии виртуозно балансирует между двумя полярными подходами, на которые ориентировались ученые с XIX в. Один из полюсов - универсализм - толкует эмоции как «нечто жесткое, неизменное, универсальное, общее для всех видов, вневременное, биологическое, физиологическое, сущностное, базовое, “зашитое в систему”» [Там же, с. 7-8]. Его антипод - конструктивизм - интерпретирует эмоции как феномен «мягкий, антиэссенциа-листский, антидетерминистский, социально-конструктивистский, культурно-релятивистский, ориентированный на культурную специфичность и культурную контингентность» [Там же, с. 11].
Книга удалась. Подводя итог своего труда, Плампер с удовлетворением констатировал, как всегда, с помощью запоминающегося образа, достойного цитирования: «Квартира истории эмоций в доме исторических наук отделана. Предметы мебели расставлены, пусть кто-то и хотел бы расставить их иначе и будут еще какие-то перестановки» [Там же, с. 484].
О том, что Я. Плампер решил серьезно заняться историей эмоций, было широко известно за несколько лет до появления его монографии. В мае 2007 г. многие коллеги-гуманитарии получили приглашение принять участие в конференции, которую Ян организовывал вместе с профессором славистики Тюбингенского университета Шаммой Шахадат и сотрудником Франкороссийского центра гуманитарных и общественных наук в Москве Марком Эли. Конференция «Эмоции в русской истории и культуре» состоялась в Москве в апреле 2008 г., а ее результаты опубликованы в сборнике «Российская империя чувств» двумя годами позже [Российская империя чувств..., 2010]. В сборнике Ян выступил теоретиком, историографом и практикующим историком. Он представил там и общий обзор, и конкретный кейс [ Плампер, 2010 b ; Плампер , 2010 c ]. Многие идеи, высказанные в сборнике, были более подробно изложены в его монографии об истории чувств. Листая оба издания сегодня, понимаешь, что создавались они параллельно.
В те годы, с 2008 по 2012, Я. Плампер был стипендиатом при возглавляемом Утой Фре-верт Центре истории чувств Института человеческого развития Общества имени Макса Планка в Берлине. Это был один из самых плодотворных периодов его исследовательской биографии. Оглядываясь назад через несколько лет, он напишет: «Совместная работа в новой области исследований, находившейся в то время на подъеме, создавала потрясающий климат в коллективе и была в высшей степени интересной с точки зрения социологии науки: создавался канон концепций и понятий, столбились участки, цитаты из новых статей появлялись почти одновременно с их публикацией. Все это, наверное, неповторимо. Вероятность того, что нам на протяжении нашей академической карьеры доведется когда-нибудь еще раз принимать участие в подобном процессе, невелика» [ Плампер , 2018, с. 491].
Работа окрыляла, но давалась нелегко. Выражая благодарности тем, кто поддерживал его в годы создания книги, Ян проговаривается, что был момент, когда он хотел бросить начатое. Вероятно, он предполагал, что немецкий оригинал выйдет раньше, чем это произошло. В сборнике, изданном в 2010 г., он ссылается на свою немецкую книгу, выставляя в качестве года ее издания не 2012, а 2011 г.
Интересно, что, составляя заявку и доклад для участия в конференции 2008 г., споря в дискуссиях, готовя текст для сборника и даже читая немецкую монографию Яна Плампера, я не предполагал, что изучение истории чувств на уровне теории и практики позволит ему получить еще один неожиданный «алхимический прибавок». Поднявшись с «пресловутой кушетки», Ян шагнул в новое пространство - пространство истории восприятия. Вернее, контуры этого пространство еще только-только намечались, его еще предстояло создать и обустроить.
***
«В 2014-2015 гг. я не могу позволить себе ничего дополнительно, но должен совершенно эгоистично работать над своей книгой о солдатском страхе, иначе она никогда не будет написана», - писал мне Ян Плампер в мае 2014 г. в ответ на мое приглашение принять участие в конференции, которую я должен был организовать в мюнхенской Исторической коллегии годом позже. К этому проекту Плампер обратился вскоре после возвращения в 2001 г. из США в Германию. С 2005 г. он посвятил солдатскому страху множество выступлений и статей, в том числе на русском [Плампер, 2010с]. Над монографией о солдатском страхе он должен был ра- ботать в Исторической коллегии в Мюнхене в 2007/2008 гг. В «Истории эмоций» он упоминает, что именно тогда накопились настолько серьезные концептуальные проблемы, что он вынужден был отойти о темы. Об этом он открыто рассказал главе Попечительского совета, найдя у того полное понимание [Плампер, 2018, с. 490]. В CV, составленном им в конце 2015 г., сообщалось, что текущий исследовательский проект «Страх: солдаты и эмоции в России во время Первой мировой войны» завершен и автор пишет книгу по его результатам.
Однако в 2015 г. Я. Плампер вновь отложил работу над этим исследованием, затянувшимся на полтора десятилетия, на этот раз по соображениям не чисто академическим, но в значительной степени политическим. Поток сотен тысяч беженцев из Сирии в Европу вызвал в Германии оживленную дискуссию, в которую Ян вмешался со всей характерной для него принципиальностью, эмпатией, эрудицией и оригинальным взглядом на проблему. В результате в 2019 г. увидела свет его книга «Новое “мы”. Почему миграция естественна. Другая история немцев» [ Plamper , 2019]. Название книги говорит само за себя. Эта книга – программный текст о том, что немецкая история в значительной степени является историей миграции, зачастую успешной, а также о пользе мультикультурализма для современного общества. Эта работа стала очередным успехом Яна: для любителей наукометрических показателей ‒ в 2020 г. индекс Хирша у Плампера взлетел до 23.
Новый поворот в исследовательской деятельности Я. Плампера удивил, хотя его коллеги, кажется, привыкли удивляться оригинальным интеллектуальным виражам в его творчестве. Лично меня удивил, однако, другой текст, хотя и он сегодня кажется естественной станцией в ученом путешествии историка.
***
«Дорогой Игорь, прилагаю к письму только что опубликованное эссе, которое также опирается на твои исследования “винных погромов” и слухов», – писал мне Ян 3 января 2021 г. К письму был прикреплен новогодний подарок – гранки большой, на два авторских листа, статьи «Звуки Февраля, запахи Октября: Русская революция как сенсорный опыт», с цитаты из которой начиналось мое повествование.
Написать эту статью Ян Плампер задумал несколькими годами раньше. Кажется, зимой 2015/2016 гг. мы созвонились с ним по Skype, чтобы обсудить вопрос о возможности его преподавания в одном из челябинских вузов. К тому моменту мы не виделись более двух лет. В какой-то момент речь зашла об исследовательских планах на будущее. Услышав, что я намерен заняться историей запахов, Ян изумленно покачал головой: надо же, наши исследовательские дорожки опять пересекаются. Тогда-то Ян и рассказал, что его теперь занимает история органов чувств, вернее история чувственного опыта, история восприятия. В том же разговоре я узнал, что издательский агент Яна отсоветовал ему писать книгу о русской революции ввиду необозримого потока публикаций к ее предстоящему столетию. Вместо этого Плампер намеревался написать статью о запахах и звуках в России 1917 г.
К тому моменту, когда в 2018 г. на Немецком съезде историков в Мюнстере Ян Плампер вместе с Бодо Мрозеком на организованной ими секции «Расколотые чувства. Сенсорные различия в XX веке» ратовал за целостное рассмотрение восприятия на основе зрения, звуков и запахов [Deutscher Historikertag, 2018], эта идея была не нова. Саймон Шама еще в конце ХХ в. попытался сконструировать целостный облик Амстердама в восприятии современников [ Шама , 2017]. В 2014 г. увидел свет шеститомный труд, посвященный честолюбивой задаче создать тотальную историю чувственного восприятия [A Cultural History..., 2014]. На российском материале первый подобный опыт принадлежит Владимиру Лапину [ Лапин , 2007]. Однако как добиться в историческом исследовании целостного изучения восприятия, а не восприятия отдельными органами чувств – зрением, обонянием, слухом, осязанием? Как не впасть в распространенную среди историков анахронистическую привычку распространять концепции эмоций из своего общества на общества прошлого, от которой Плампер предостерегал еще в «Истории эмоций» [ Плампер , 2018, с. 483]? Этот вопрос является центральным в его статье 2021 г.
***
«Интегрированная категория опыта включает в себя сенсорное измерение, в котором органы чувств больше не рассматриваются как хронологически или функционально отдельные» [ Plamper , 2021, p. 142–143]. В этом суть программы исторического исследования сенсорного опыта, предложенной Яном Плампером. В духе происходящего на наших глазах «поворота от лингвистического поворота» он настаивает на назревшей потребности в изучении опыта как феномена, объединяющего лингвистические способы коммуникации с нелингвистическими. «Органы чувств, – пишет он, – становятся частью интегрированного, мультимодального, симультанного сенсорно-эмоционально-когнитивного процесса; в конечном итоге это потребует неологизма, который отбросит сенсорное, эмоциональное и когнитивное как отдельные измерения и объединит их в единый термин» [Ibid., p. 143]. Поиск нового языка для изучения чувственного опыта необходим ввиду того – здесь Ян Плампер солидарен с исследовательницей Великой Французской революции Линн Хант, – что «нелингвистические способы коммуникации имеют свою собственную логику» [Ibid., p. 142].
В качестве неологизма, объединяющего вербальные и невербальные модусы опыта, Я. Плампер выбирает термин Faktura , обозначавший в русском авангарде целостное восприятие мира [Ibid., p. 143]. Faktura «обещала целостную утопию, столь же актуальную для революционной эпохи, как и для историков сегодня – поиск целостной аналитической линзы, выходящей за рамки бинарной оппозиции “опыт – дискурс”» [Ibid., p. 165]. Плампер предлагает вернуться к образу мышления, сходному с верой Бенедикта Спинозы в единство чувств и души, – этот процесс он наблюдает в ряде современных философских и нейронаучных исследований – и преодолеть дуализм природы и культуры. Он видит ключевую задачу будущей истории (органов) чувств в том, чтобы преодолеть противопоставление универсализма и конструктивизма, опыта и дискурса и «принять интегрированную сенсорно-эмоционально-когнитивную процессуальную модель опыта, не забывая при этом о том, что исторические акторы мыслили дуали-стично» [Ibid., p. 163].
Эти теоретические размышления пора использовать, по мнению Яна Плампера, при изучении великих исторических событий. Здесь он также солидарен с ведущим экспертом по истории Великой французской революции Л. Хант: «Пришло время применить такую емкую, целостную концепцию опыта к таким всемирно-историческим событиям, как французская или русская революции, чтобы посмотреть, что можно получить, перечитав их через сенсорную линзу» [Ibid., p. 143].
Плампер предлагает поставить в центр исследования то, что раньше использовалось как «приправа» к повествованию. Необходимо, считает он, более внимательно присмотреться к таким «мелочам», как конструирование революционного пространства посредством не только зрения, но и других органов чувств; перемены в восприятии привычных запахов; паралингвистические, звуковые особенности восприятия ораторской речи в домикрофонную эпоху; трансформация символической составляющей выстрелов, трамвайных звонков, молчания телефона, перебоев в подаче воды и электричества и ко многому другому. Потому что «как и все современные революции, русская революция сопровождалась различными переживаниями самого времени», в том числе сенсорными переживаниями [Ibid., p. 154]. Сенсорный подход предоставляет новые возможности для уточнения или альтернативных интерпретаций хорошо известных фактов. Так, этот подход предлагает «дополнительное причинное объяснение того, почему большевики вкладывали столько сил в переписывание памяти о Феврале как о главном переломе: требовались особые усилия, чтобы стереть сенсорные впечатления от Февраля, которые были глубоко внедрены в коллективную память, разорвать прочную связь между памятью и чувствами» [Ibid., p. 156].
Таким образом, изучение русской революции на основе «сенсорно-эмоциональнокогнитивной процессуальной модели опыта», по убеждению Яна Плампера, позволит по-новому интерпретировать революцию 1917 г. и закрыть многие исследовательские лакуны, которые историки не замечают, не будучи вооруженными этой «линзой»: «Сенсорная история русской революции выдвигает на первый план аспекты революционного опыта, упущенные из виду в описаниях, посвященных политике, идеологии, классу и даже символическим практикам» [Ibid., p. 162].
***
«Блестящий текст, в котором оригинальное сочетание преимущественно известных фактов порождает новое знание», – писал я Яну по поводу статьи «Звуки Февраля, запахи Октября» в мае 2023 г. Речь идет, конечно, не только о результате новой комбинации старых фактов, создающих новый когнитивный эффект. В данном случае мы имеем дело с очень глубоким теоретическим обоснованием новаторского конкретно-исторического исследования. Плампер предлагает думать, как Спиноза, монистически, одновременно учитывая, что исторические акторы чувствовали, думали и действовали дуалистично, в соответствии с традицией, заложенной в XVII в. Рене Декартом. Он пишет в заключении статьи: «Мы живем во времена, когда дуалистическое осмысление социальной реальности преобладает, и дуализм глубоко формирует то, как мы переживаем реальность. Но правда в том, что социальная реальность – это нечто иное, чем дуализм. Или вызов для истории опыта состоит в том, чтобы думать вместе со Спинозой, но учитывать тот факт, что люди в конкретном месте и времени переживали мир через картезианскую линзу» [Ibid., p. 163–164].
Предложения Яна Плампера являются одним из возможных, но чрезвычайно труднопроходимых путей уточнения того, как большая история усваивается маленькими людьми на уровне вербального и невербального опыта. Как историку избавиться от привычного дуалистического видения себя и окружающего, прошлого и настоящего? Как на практике, в исследовательском процессе выбраться из анахронистической ловушки, от которой многократно предостерегал Ян Плампер?
К сожалению, у меня нет ответа на эти вопросы. Но размышлять о них полезно. Впрочем, в задачи моего текста не входило предлагать конкретные, практические советы по использованию предложений Яна Плампера. Мне хотелось показать интеллектуальные (и чувственные) приключения пытливого ума и пылкой натуры, какой был Ян Плампер, в поисках ответов на актуальные проблемы, которые он обдумывал и переживал. Кажется, эта история еще раз подтверждает расхожую истину: приключения идеи могут быть не менее захватывающими, чем сама идея.