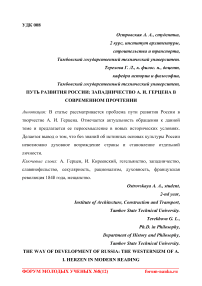Путь развития России: западничество А. И. Герцена в современном прочтении
Автор: Островская А.А., Терехова Г.Л.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 8 (12), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема пути развития России в творчестве А. И. Герцена. Отмечается актуальность обращения к данной теме и предлагается ее переосмысление в новых исторических условиях. Делается вывод о том, что без знаний об истинных основах культуры России невозможно духовное возрождение страны и становление отдельной личности.
А. герцен, и. киреевский, гегельянство, западничество, славянофильство, секулярность, рационализм, духовность, французская революция 1848 года, мещанство
Короткий адрес: https://sciup.org/140279442
IDR: 140279442
Текст научной статьи Путь развития России: западничество А. И. Герцена в современном прочтении
Как это ни парадоксально, но тема, связанная с развитием культуры русского народа, настолько понятная и открытая, как сказали бы сегодня «прозрачная», до сих пор дискуссионна, до сих пор многим современным представителям русского государства непонятен путь, по которому целое тысячелетие развивалась Россия, превращалась в крепкое государство, формировала формы своей культуры, становилась самобытной.
До сих пор мы – западники и славянофилы и нет в нас единой мысли и поступка. Но, в отличие от западников и славянофилов XIX века, мы сегодня очень эклектичны, питаем свой духовный организм разными отбросами интернетовских и новомодных журнальных и газетных статей о различных духовных практиках Востока, желая жить в материальном комфорте Германии или Швеции.
На самом деле, мы очень мало знаем Европу, психологию ее обитателей и совсем не знаем Востока. А представители высшего общества в России XIX века зачастую получали образование в европейских университетах, хорошо знали быт и нравы европейцев. Западники и славянофилы (напр., И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, А. И. Герцен) любили европейскую культуру, искусство, философию, в начале своих духовных исканий обращались к ней как за спасительным кругом и, познакомившись ближе, часто разочаровывались. Например, Иван Киреевский ценил всегда культуру Европы, но считал, что развитие внутреннего содержания европейской культуры уже остановилось, так как воцарилось господство рациональной философии. Оно привело к раздвоению веры и к отвлеченно -рациональному основанию религии, «где авторитет Предания заменяется авторитетом личного разумения» [7, с. 225-226]. Отделение Римской Церкви от Церкви Вселенской привело к тому, что «разум должен был слепо покоряться вероучению, утверждаемому внешнею властию видимой Церкви, - слепо, потому что нельзя было искать никакой внутренней причины для того или другого богословского мнения, когда истинность или ложность мнения решалась случайным разумением иерархии. Отсюда схоластика со всеми ее рассудочными утонченностями, беспрестанно соглашавшая требования разума с утверждениями иерархии и, соглашая их, беспрестанно удалявшаяся от них в бесчисленное множество еретических систем и толкований». [7, с. 227]. Это и привело западную культуру к тому состоянию, которое характеризуется как секулярность, то есть отделенность философского знания и всей культуры от религии, а часто и отчужденность. В конечном итоге, секулярность привела в европейской культуре, а, позднее, в нашей отечественной, к потере духовной целостности человека.
Славянофил И. Киреевский находит истинные причины постепенного угасания духовной культуры Европы: знакомство с Православием через жену Н. Арбеневу и старцев Оптиной пустыни открывает ему их. А вот западнику А. Герцену, воспитанному этой секулярной культурой (даже Библию он читал в лютеровском переводе), было гораздо сложнее понять истинные причины духовного разложения и искажения человеческой натуры и общественных и культурных процессов.
Александр Иванович Герцен – яркая личность в культурном пространстве нашего Отечества, которая, по словам С. Булгакова, принадлежит «к числу тех наших национальных героев, при одном упоминании имени которых расширяется грудь и учащенно бьется сердце», и «вместе с тем он является одной из самых характерных фигур, в которых воплотились многосложные противоречия противоречивого XIX века» [2, с. 3]. Он один из тех, кто всецело доверился идеалу европейского просвещения и он же один из тех, кто в большей степени в Европе разочаровался. Об этом сегодня стоит вспоминать, говорить, и, может быть, даже настойчиво. Необходимо рассказывать открыто о событиях, происшедших с известными людьми, такими как А. Герцен и его друг Н. Огарев, учиться их опыту. Они жили в Европе, перед ними была открыта не только ее глянцевая обложка, но и все то, что скрывается за ней.
Для А. И. Герцена поиск пути развития России – дело всей жизни. В текстах его работ – безмерная искренность: пишет ли он о политических событиях, личных переживаниях, друзьях или общественных деятелях. Поиск себя и пути развития русской культуры сливаются воедино. В дарованном ему искусстве слова отражаются терзания души и мысли.
Как и многие из представителей русской интеллигенции, Герцен испытал влияние западной философии в лице философии духа Гегеля. Он принимает идею немецкого философа о том, что природа есть телесное существование идеи. Тем не менее, русский мыслитель замечает, что гегелевская философия история превратилась в прикладную логику. По мнению Герцена, «истина логическая – не одно и то же с истиной исторической, что сверх диалектического развития, она имеет свое страстное и случайное развитие, что сверх его разума, она имеет свой роман» [3, с. 632]. В данном вопросе он согласен со славянофилами, которые считали, что в западной культуре более всего ценится рассудочность и внешний логический порядок вещей. А для Герцена история – движение человечества к освобождению и познанию самого себя.
Конечно же, ум Герцена, воспитанный на западноевропейской литературе, тяготел к этой культуре, но его духовному существу в этом рационализме чего-то не хватало. По этой причине его тексты характеризуются нераздельностью этического, эстетического и социального мотивов. Семен Франк в работе «Духовные основы общества» отмечал эту характеристику русского ума, для которого истина «неотрывна от правды, справедливости, а рациональное от переживаний» [9, с. 6].
Вслед за Герценом, Европу мы часто воспринимаем по незнанию как красивую картинку. Но в западной культуре проявились совершенно разные тенденции развития: в первой – красота и глубокие духовные искания, святость (св. Дионисий Парижский, Шекспир, Бах, мученики якобинского террора и др.), в другой – властолюбие, диктат, террор (Кромвель, Робеспьер, Марат, Ницше, Гитлер). Герцену Европа представлялась романтической. Он восхищался якобинцами, считал, что они принадлежат к особенному меньшинству, представлявшему «высшую мысль своего времени» [3, с. 638]. Знал ли он об их зверствах? Как относился к подобным событиям? Луи-Мари Прюдом в работе «Общая и беспристрастная история Революции» приводит следующие цифры: «обезглавленных на гильотине 18 613 человек (в том числе 1278 дворян, 1135 священников, 2837 женщин и 13 363 мужчины, не принадлежавших к дворянскому сословию); погибли в Вандее 337 тыс. человек, в Лионе 31 тыс., в Нанте 35 тыс. В провинции было казнено 42 тыс. человек, из них 17 тыс. по приговору суда. Со 2 по 5 сентября в Париже произошли события, впоследствии названные «Сентябрьскими убийствами». Было убито более 1000 заключенных, среди которых 300 священников и 3 епископа» [11]. Герцен об этом не пишет. С кровавыми репрессиями он столкнулся уже после революции 1848 года. А пока его воображение захватывали средневековые и возрожденческие образцы европейской культуры. Это рыцарская доблесть, изящество аристократических нравов, гордая независимость англичан, роскошная жизнь итальянских художников. Испытав на себе последствия французской революции, Герцен впадает в отчаяние. Он впервые видит ту реальность, которая скрывалась за красивыми фасадами зданий. Вера в провиденциализм и деятельность в истории абсолютного духа разрушается. Когда-то он бежал из России, хотел обрести свободу и быть счастливым в творчестве. Теперь он сравнивает Запад с древним Римом периода упадка, становясь «свидетелем этого «упадка», приобретшего форму революционных восстаний в Италии и Франции» [10, с. 176]. Его личная трагедия (во время кораблекрушения погибают мать Герцена и его младший сын, а в 1852 г. умирает (после родов) Натали и новорожденный ребенок, во втором браке умирает дочь) и трагедия общества вызывают в нем сомнения в закономерности исторического бытия.
Прежние отношения между людьми в Западной Европе после революции были потрясены, а «нового сознания настоящих отношений между людьми не было раскрыто» [3, с. 639], поэтому старые отношения переплавились и переродились «в целую совокупность других господствующих нравов, мещанских» [3, с. 638]. А к мещанству Герцен испытывает эстетическое отвращение. Ничем не обуздываемое стяжательство становится ненормальным явлением в обществе, политический же вопрос становится «вопросом мещанским». И «действительно нравственного начала во всем этом нет» [3, с. 639]. Вся нравственность в послереволюционную эпоху свелась к тому, что «неимущий должен всеми средствами приобретать, а имущий – хранить и увеличивать свою собственность» [3, с. 639].
Герцен поражен теми открывшимися европейскими духовными язвами, которые явились последствиями излишнего рационализма, возникшего еще в эпоху Ренессанса в недрах протестантского мировоззрения. Об этом разложении, зародившемся в среде священнослужителей, писал русский философ А. Ф. Лосев: в Италии эпохи Возрождения «священнослужители содержат мясные лавки, кабаки, игорные и публичные дома»; «монахи читают “Декамерон” и предаются оргиям, а в грязных стоках находят детские скелеты как последствия этих оргий» [8].
В новых отношениях Герцен обнаруживает лицемерие и скрытность, ту «нелепость и тяжесть ума» [3, с. 640], которая не дает мещанам свободно мыслить. Оно пробралось во все тайники семейной и частной жизни. Подобные рассуждения актуальны уже и для современной России: мы заражены отравляющими нас сообщениями из интернета, в которых много оскорбляющих слов в адрес невинных людей. В этом мы не стараемся разобраться, но покупаемся на бесконечные призывы рекламы заниматься только своим телом, телом и еще раз телом, забывая о душе, не говоря уже о духе. А для Герцена буржуазия правит бал и мещанство для нее – сладость. По его мнению, ни рыцарство, ни католицизм не проникли так глубоко в отношения людей. К сожалению, у него не было знаний о разделенном христианстве, об искажении некоторых христианских истин в католицизме, об уклонении европейской культуры в папизм.
После европейской революции Герцену «невыносимо удушливо жить» в создавшейся атмосфере Англии и Франции, так как здесь «современное западное состояние наибольше развито», «вернее своим началам», «богаче, образованнее» [3, с. 642]. «Побродивши между посторонних» Герцен обращается к России, начинает верить в нее, несмотря на то, что «у нас бездна лукавства диких и уклончивости рабов», «но… мы далеко отстали в разъедающей, наследственно зараженной тонкости западного растления» [4, с. 276].
Незнание определенной частью русской интеллигенции, а также и Герценом, последствий искажения христианства в Европе, привело многих к идеализации этой культуры на основании развитых цивилизационных форм (напр., архитектура, живопись, литература). Происходило искусственное перенесение сознанием красоты этих внешних форм и на внутреннюю культуру европейцев. Поэтому последствия революции 1848 года были так тяжелы для восприятия: внутренняя жизнь французского народа, не имевшая под собой духовного основания, не выдержала напора террора и репрессий. Поэтому все существо Герцена не принимало такой Запад, каким он ему представлялся после осуществления социальной революции (фактически произошла политическая революция). Виктор Аксючиц в статье «О русском «варварстве» и европейской «добродетельности» акцентирует внимание на том, что «в Европе было больше злодеяний, но там они не воспринимались как что-то из ряда вон выходящее» [1]. Сознание же русского народа, просвещенного Православием и опиравшегося на «нравственное чувство оценило многие «факты русской истории» как «чудовищные» [1]. Поэтому Герцен до жизни в Европе видит в родной действительности больше изъянов, после европейской революции - далекость от «разъедающей, наследственно зараженной тонкости западного растления» [4, с. 276].
«Раздавленный при встрече двух мировых колес истории», Герцен видит выход в образовании, которое «у нас кладет предел, за который много гнусного не ходит» и «умственное развитие служит (по крайней мере, служило до сих пор) чистилищем и порукой» [4, с. 277]. Находясь в состоянии поиска тех средств, которые не дадут русскому человеку погрузиться в мещанство, он приходит к мнению о спасительной роли искусства и литературы, которые должны стать сферой приложения духовных сил нации вследствие неразвитости, зажатости других сфер деятельности и жизни, а также самодержавного давления и молодости.
Что мы можем сказать Герцену сегодня о литературе и искусстве, которые появилась в постсоветской России – во время обретения полной свободы слова и лишенные нравственных преград? Подчас некоторые из этих произведений неизмеримо безнравственнее того «неразвитого» и «зажатого» в русском человеке и совершенно бездуховны. Видимо дело не в литературе и искусстве, а в чем-то более глубоком, что Герцен выбросил из своей жизни, назвав себя атеистом. С. Булгаков отмечает, что «атеизм Герцена… есть ключ к пониманию всей его духовной драмы» [2, с. 163]. Он «всю жизнь шел к вожделенной истине, не уставая и не останавливаясь пред внутренней ломкой, пред сердечными ранами» [2, с. 162-163]. Но атеизмом закончились все его религиозные искания, которые «имеют в известном смысле национальное значение, и горько думать, что до сих пор русский народ еще не имеет своего Герцена» [2, с. 163]. Современный русский народ в большинстве своем получает секулярное, т. е. безрелигиозное образование, читает очищенную от религии литературу, питает свои чувства такими же формами искусства.
Герцен также надеется на «избранные натуры». Это, по его мнению, большие люди, которых слишком мало, чтобы оказать влияние на окружающих. Эти избранные натуры несут высокую «должность развивателей», «они орудия идей, которые и без них – может, иначе, может, позже, – но развились. Мера высоты развивателей есть их самобытность и отчетливое сознание того, что они совершают» [5, с. 58]. В этих строках явно прослеживается влияние идей Гегеля. Но гегельянцем в точном смысле слова его не назовешь, так он брал из него лишь то, что ему было необходимо. Зеньковский считает, что «система Гегеля заполнила для Герцена, прежде всего, ту пустоту, которая образовалась у него после падения религиозного мировоззрения. Религиозный имманентизм, к которому Герцен имел внутреннюю склонность (от ранней «секулярной религиозности»), получил в учении об Абсолютном Духе, живущем в мире и через мир, новую формулировку» [6, с. 291].
Зеньковский отмечает «блестящее литературное дарование Герцена, ставящее его в разряд первоклассных русских писателей» [6, с. 278], которое помогло ему пережить ту тяжелейшую эпоху революций и вывело его из состояния отчаяния, в котором он погибал. А его манера изложения, открытость и простота делают его произведения до сих пор актуальными, несмотря на то, что проблемы, затронутые в его произведениях, не всегда решаются.
Путь Герцена – путь русского интеллигента, впитавшего в себя секулярную культуру, потерявшую истинные духовные ориентиры. Природное чутье вернуло его ум и сердце к России, вначале необразованной, а, позднее, не такой лукавой, как Запад. Но главное он не нашел. Это тот путь, который избрал еще св. кн. Владимир, это тот путь, который стал основой русской государственности. К сожалению, и сегодня мы продолжаем жить в этой секулярной культуре. В опыте русского народа после Герцена –революция 1917 года, о которой так мечтал Герцен. Его опыт и боль нам не помогают. Нам действительно не хватает серьезного, но не секулярного образования. Плоды последнего налицо. Мыслитель мечтал о свободном развитии России через науку и искусство. Но что-то все у нас не получается, потому что истинную свободу мы не можем обрести без источника этой свободы – Бога.
Список литературы Путь развития России: западничество А. И. Герцена в современном прочтении
- Аксючиц Виктор. О русском «варварстве» и европейской «добродетельности». [Электронный ресурс]. URL: https://p-beseda.ru/publication/1ce09658-4fa4-11e7-a7cf-dbb9e46c29ff (дата обращения: 22.06.2017).
- Булгаков С. Душевная драма Герцена. - Киев: Изд. С. И. Иванова и К, 1905. - 43 с.
- Герцен А. И. Былое и думы. - М.: 1969. Ч. 1-5. - 1179 с.
- Герцен А. И. Об искусстве. - М.: Искусство, 1954. - 446 с.
- Герцен А. И. Эстетика. Критика. Проблемы культуры. - М.: Искусство, 1987. - 603 с.
- Зеньковский В. В. История русской философии. В 2-х т-х. - Париж: YMKA-PRESS, 1948. Том. 1. - 469 с.
- Киреевский И. В. Полное собрание сочинений. В 2-х т-х. - М.: Типография Императорского Московского Университета, 1911. Т. 1. - 295 с.
- Лосев А. Ф. Эстетика возрождения. - М.: Мысль, 1978. - 624 с. [Электронный ресурс]. URL: https://www.psyoffice.ru/2733-9-lose010-index.html (дата обращения: 3.06.2017).
- Франк С. Л. Духовные основы общества. - М.: Республика, 1992. - 511 с.
- Фреде В. История коллективного разочарования: дружба, нравственность и религиозность в дружеском кругу А. И. Герцена - Н. П. Огарева 1830 - 1840-х гг. № 49 (3). - Москва: Новое литературное обозрение, 2001. С. 159 - 190.
- Цит. по: Симонов В. Путь крови воинствующего атеизма. [Электронный ресурс]. URL: http://krestovayapustin.cerkov.ru/2015/07/20/put-krovi-voinstvuyushhego-ateizma/ (дата обращения: 2.07.2017)