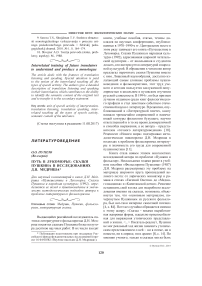Путь в Лукоморье: "сказки" Пушкина в исследованиях Д.Н. Медриша
Автор: Путило Олег Олегович
Журнал: Известия Волгоградского государственного педагогического университета @izvestia-vspu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 9 (122), 2017 года.
Бесплатный доступ
Дается научный комментарий к книге Д.Н. Медриша «Путешествие в Лукоморье. Сказки Пушкина и народная культура» (1992), определяется ее вклад в пушкиноведение и значимость методологических подходов автора к проблеме литературного фольклоризма.
Медриш, пушкин, фольклоризм, литературная сказка
Короткий адрес: https://sciup.org/148167077
IDR: 148167077
Текст научной статьи Путь в Лукоморье: "сказки" Пушкина в исследованиях Д.Н. Медриша
Выдающийся российский исследователь поэтики литературного фольклоризма Д.Н. Мед-риш посвятил сказкам Пушкина более полутора десятков научных работ. В их число входят книги, учебные пособия, статьи, тезисы докладов на научных конференциях, опубликованные в 1970–1990-е гг. Центральное место в этом ряду занимает его книга «Путешествие в Лукоморье. Сказки Пушкина и народная культура» (1992), адресованная широкой читательской аудитории ‒ от школьников и студентов до всех, кто интересуется литературой и народной культурой. В обращении к читателю автор предлагал перечитать сказки Пушкина вместе с ним. Лишенный наукообразия, доступно излагающий самые сложные проблемы пушкиноведения и фольклористики, этот труд ученого и сегодня пользуется заслуженной популярностью в школьном и вузовском изучении русской словесности. В 1994 г. он был признан лучшим изданием среди книг филологического профиля и стал заметным событием отечественной науки о литературе. В рецензии, опубликованной в «Литературной газете», книгу назвали чрезвычайно современной и намечающей контуры филологии будущего, научно ответственной и в то же время демократичной в способах выражения, а ее автора – представителем «точного литературоведения» [10]. Рецензент «Нового мира» подчеркивал методологическое новаторство Д.Н. Медриша в подходах к проблеме фольклоризма литературы и значимость его труда для современной пушкинистики [11].
Книга стала новым этапом многолетних исследований автора по проблеме «Пушкин и фольклор». Несколькими годами ранее в учебном пособии «Фольклоризм Пушкина» (1987) Д.Н. Медриш рассматривал эту проблему на материале широкого круга произведений великого поэта: от лирических миниатюр и романа в стихах «Евгений Онегин» до «Медного всадника» и «Капитанской дочки». Решение остановить свой взгляд для подробного исследования именно на сказках, возможно, объясняется тем, что «основным материалом, почерпнутым Пушкиным из русского фольклора, был все-таки материал сказочной поэзии» [4, c. 84]. Поэт не случайно обращается именно к этому жанру: «Сказка ‒ веками выработанная жанровая форма, идеально приспособленная для выражения утопических представлений о жизни. <...> Писатель-реалист, Пушкин не мог реальный ход жизни заменить утопическим представлением о ней ‒ ни в поэме, ни в повести, ни в лирике, ни в драме» [8, с. 14]. По мнению ученого, только в сказках могла быть
реализована основная проблема пушкинского творчества тридцатых годов ‒ естественное стремление личности к свободе и счастью и его неосуществимость в условиях реально существующего общества и государства.
Одной из основных задач книги «Путешествие в Лукоморье» является поиск циклообразующих признаков, которые могли бы обосновать порядок расположения сказок, намеченный Пушкиным в т.н. втором списке, озаглавленном им как «Простонародные сказки». Сам факт тесной связи пушкинских сказок между собой и создания ими единого цикла уже давно стал в пушкиноведении аксиомой. Исходя из формулировки заглавия, М.К. Азадовский и А.Д. Соймонов в качестве главного циклообразующего признака выдвигали пушкинскую идею народности литературы. С.В. Сапожков полагал, что «все пять сказок объединяются между собой не только общностью авторской смысловой логики <...>, но и общностью авторских форм освоения элементов народно-сказочной поэтики» [12, с. 157]. В.С. Непомнящий показал, как через все пушкинские сказки проходит несколько сквозных проблем и лейтмотивов (проблема возмездия, образ моря, тема семьи и др.) [9, с. 187–260].
Наличие общих тем, мотивов, образов Д.Н. Медриш считает недостаточным для выводов о единстве цикла, потому что «перекличка мотивов, общность проблематики, совпадение реалий в группе сказок не только естественны, но и, пожалуй, неизбежны» [8, с. 124]. По его мнению, эти сквозные элементы поэтики сказок необходимо рассматривать в их динамике. И такой подход позволяет увидеть эволюцию этих тем, мотивов и образов в структуре пушкинского цикла.
Так, исследователь замечает, что мотив пира от сказки к сказке подвергается серьезной трансформации. В сказках, по своему характеру и настроению близких волшебным сказкам русского фольклора («Сказка о царе Салтане» и «Сказка о мертвой царевне»), поэт почти дословно воспроизводит традиционный сказочный финал. За пиршественным столом в обеих сказках ‒ только добрые люди. Однако в «Сказке о рыбаке и рыбке» справедливый порядок нарушается: празднует вздорная старуха, а доброму старику нет места за столом. Наконец в последней пушкинской сказке фольклорная норма переворачивается «с ног на голову»: царь Дадон пирует с шамаханской царицей в окружении мертвых сыновей ‒ тради- ционный радостный пир превращается в кощунственное пиршество.
Другой устойчивый образ пушкинских сказок ‒ море, который большинство пушкинистов трактовали «упрощенно, возводя его напрямую к реалиям, без учета законов сказочной поэтики» [8, с. 21–22], также эволюционирует на протяжении цикла. В открывающей перечень «Сказке о царе Салтане» все связано с морем: большую часть времени Гви-дон проводит на его берегу, в море живут дозорные-богатыри, из-за моря в самом конце приезжает царь-отец к своему сыну. В «Сказке о попе и о работнике его Балде» перед нами уже не окиян-море, а обиталище чертей. Глубокое море вслед за золотой рыбкой навсегда уходит из сказочного мира Пушкина в «Сказке о рыбаке и рыбке», и на пути персонажей «Сказки о золотом петушке» моря не видно ‒ одна сплошная пустыня да тесное ущелье в горах.
Все эти трансформации Д.Н. Медриш считает проявлениями главного циклообразующего признака ‒ меры сказочности, которую он понимает как изменяющийся на протяжении цикла «угол преломления» жанровой природы фольклорной сказки в произведениях автора-поэта [8, с. 125].
Перед тем как приступить к рассмотрению цикла в единстве формы и содержания, Д.Н. Медриш исключает из него стоящее первым номером в пушкинском «списке» стихотворение «Жених», в котором фольклорный сюжет «переключается в план мировосприятия типичного балладного жанра» [12, с. 180]. В целом Д.Н. Медриш соглашается с позицией С.В. Сапожкова, утверждавшего, что, «принимая во внимание условный характер включения баллады “Жених” в этот план, “начальной точкой отсчета” при анализе всего цикла следует считать “Сказку о царе Салтане”» [Там же, с. 45–46]. Однако прежде чем перейти к ее анализу, автор книги обращается к найденному после смерти поэта среди его черновых бумаг стихотворному тексту, который публикаторы назвали «Сказка о медведихе». Д.Н. Медриш подвергает решительному пересмотру общепринятое мнение о ее незавершенности. Так, в конце XIX в. Вс. Миллер утверждал, что повествование о медведихе ‒ «отрывок», «эскиз», «проба пера», «начало сказки о медведице, безусловно требующее продолжения». Основным аргументом всех сторонников этой версии была неслаженность ее частей, композиционная несогласованность «ее первой части
(рассказ о мужике и медведице) с последующим развитием действия, где главное место заняла сатира» [13, с. 190].
Д.Н. Медриш показывает, что фольклорность этой сказки «не сводится к какому-либо одному фольклорному жанру» [8, с. 42]: ее образы восходят и к архаическому культу медведя, и к обрядовой поэзии. Острые характеристики животных, являющихся к медведю, гораздо ближе не к сказке о животных, а к социально-бытовой сказке и связанной с ней демократической сатире XVII в. Поэтому веселый характер заключительных строк сказки закономерен и не является примером ее раз-ностильности: «Скоморошья по манере, прибаутка-концовка пушкинской сказки выполняет ту же эстетическую функцию, что и шуточные концовки <...> книжных “повестей” и “сказаний”. Назначение такой концовки ‒ эмоциональная разрядка. После балагурного перечня тех, кто прибежал или пришел, ничего уже не могло следовать так же, как немыслимо продолжение волшебной сказки после слов “и я там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало”» [Там же, с. 46]. Ученый обращает внимание на противоречие, допускаемое всеми издателями сочинений А.С. Пушкина, в комментариях неизменно указывающих «Не закончена», но тем не менее помещающих «Сказку о медведихе» в основных текстах, а не в разделе «Незавершенное, планы, отрывки, наброски».
Не мог автор книги о сказках Пушкина обойти вниманием и пролог поэмы «Руслан и Людмила», т.к. уже «для современников Пушкина сказочность поэмы была явной и неоспоримой» [4, с. 82], да и сам поэт относился к ней, «как к произведению, построенному на мотивах сказочного эпоса» [13, с. 154]. По мнению Д.Н. Медриша, в чудесном мире русской сказки пролога обнаруживаются «такие свойства, которые в самой фольклорной сказке представлены лишь намеками, а порою и вовсе утеряны фольклором на какой-то ранней, еще досказочной стадии художественного развития» [8, с. 28]. Образ «кота ученого», который в отличие от народно-сказочного прототипа ходит по дереву не вверх и вниз, а направо и налево, хотя и является отклонением от зафиксированного фольклорного образца, но ведет «в глубь фольклорной традиции», ведь, как заметил исследователь мифологического образа «мирового древа», именно «горизонтальная структура соотнесена с ритуалом и его участниками» [14, с. 401].
Первую сказку цикла – «Сказку о царе Салтане» – Д.Н. Медриш характеризует как «удвоенную». Принцип удвоения, наложения обнаруживается здесь во всем, вплоть до самых мелких деталей. В ней «слиты два фольклорных сюжета, совмещены две версии одного из этих сюжетов, сдвоены персонажи, спарены функции, введены параллельные мотивировки, продублированы реалии» [8, с. 48].
Принцип удвоения в построении отдельных образов заметнее всего проявляется в образе главной героини: «У Пушкина в сказке расколдованная лебедь превращается не просто в прекрасную царевну, а в чудо-царевну, у которой под косой месяц, а во лбу звезда. В фольклоре образы эти существуют раздельно» [Там же, с. 52]. Усиливаются не только достоинства положительных героев, но и недостатки отрицательных. Из бытующих в фольклоре версий подмены письма у Пушкина представлена самая постыдная для клеветников. «Рождение же “неведомой зверюшки” ‒ это уже не просто обман, это чудовищная клевета» [Там же, с. 56]. В популярном у читателей образе белочки, одновременно снабжающей валютой царство-государство и развлекающей народ песенками, прослеживается удвоение мотивировок. Соединив в белке две функции, Пушкин сделал это не вопреки фольклорной традиции, а в ее развитие: «Когда “Царь Сал-тан”, как и другие пушкинские сказки, вошел в фольклорный репертуар ‒ белка сохранилась. Значит, белка ‒ певунья и добытчица золотых скорлупок, из которых льют монету, русскому фольклорному сознанию не противоречит» [Там же, с. 57].
Анализируя «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях», автор книги дистанцируется от спора об источниках этой сказки. Для него важнее, что «Сказка о мертвой царевне» «дальше всех предыдущих отходит от фольклора», что в ней, «вопреки традиции, внимание делится между многими сюжетными линиями» [9, с. 211]. Как и в «Сказке о царе Сал-тане», поэт объединяет в одном тексте два характерных для русского фольклора мотива: «Чудесные дети» и «Мертвая царевна».
Одним из таких отступлений от традиционных сказочных сюжетов является отчетливое проявление одного характерного свойства пушкинских сказок: зло творят не мифические и сказочные чудища (Яга, Кощей и т.п.), «а обыкновенные люди ‒ мужик, убивающий медведя, завистливые сестры, по наущению которых царицу с сыном заключают в бочку, жадная старуха, возомнившая себя владычицей морскою, злой царь, ответивший звездочету на добро ‒ убийством, злая мачеха, отправившая падчерицу на съедение волкам и готовая заключить в рогатку девушку Чернавку» [8, с. 74]. Однако в финале этой сказки пока еще вполне по-сказочному торжествует справедливость: злая мачеха умирает от тоски, а невинно гонимая падчерица счастлива со своим королевичем.
Очень часто, сопоставляя сказки Пушкина с их фольклорными аналогами, Д.Н. Медриш обращается к универсальному для волшебной сказки закону «сказано – сделано», одному из ключевых теоретических открытий, сделанных в его работах о поэтике сказки: «Всякая произнесенная речь влечет за собой действие, в ней упомянутое (“сказано – сделано”), равно как и всякое событие становится предметом сообщения (“сделано – сказано”)» [7, с. 50], и «одно лишь упоминание о поступке становится поводом, мотивом для его совершения» [6, с. 123]. Так, в «Сказке о мертвой царевне» есть персонаж действующий, но не говорящий. Это верный пес Соколко, в изображении которого «Пушкин отходит от сказочного образа чудесного животного, рисуя с исключительным мастерством художника-реалиста усилия верного пса передать свое беспокойство хозяйке, которая его не понимает» [2, с. 180]. Для усиления темы верности «Пушкину просто необходимо, чтобы пес говорить не умел» [8, с. 69], ведь «чтобы показать богатырям, что яблоко отравлено, у него остается одно средство ‒ проглотить отраву и погибнуть» [Там же], заплатив таким образом высшую цену.
В то время как первые две сказки традиционно соотносят с волшебными сказками, в основе «Сказки о попе и о работнике его Балде» лежит «народная бытовая сказка о хозяине и работнике, та ее версия, которая обычно сочетается с другим бытовым сюжетом, ‒ о глупом черте» [Там же, с. 75]. Несмотря на то, что текст сказки о Балде близок записи народной сказки, сделанной Пушкиным в Михайловском, поэт «выпустил весь рассказ о состязании попа с работником, заменивши его описанием усердной службы Балды у попа» [2, с. 65]. То, что Пушкин свел к минимуму количество эпизодов и действующих лиц, оставив только трех главных персонажей, Д.Н. Мед-риш считает развитием фольклорной традиции, вследствие чего чертенок «обретает права персонажа, требующего к себе определенного авторского и читательского отношения» [8, с. 79]. Особую роль авторы работ об этой сказке отводят пушкинскому эпитету: по их мнению, использование поэтом уменьшительноласкательной формы «бедненький» вместо общепринятого «бедный» вызывает у читателя жалость к бесу. А тот, кто пожалеет его, по предположению одного из исследователей этой сказки, возможно, найдет в душе своей снисхождение и к попу. Поэт неслучайно переделывает финальную сцену, заменив строчки «брызнул мозг до потолка» и «вышибло дух у старика» фразой «вышибло ум у старика»: «эффект расправы с попом, вопреки первоначальной традиционной концепции, не усилен до максимума, но приглушен на третьей, последней ступени приема повторения: попу дарована жизнь» [3, с. 25]. Однако Д.Н. Мед-риш не согласен со следующим отсюда выводом, что эти изменения продиктованы желанием Пушкина «более гуманизировать Балду <...>, что могло бы облегчить и прохождение “Балды” через цензуру» [3, с. 31]. По мнению ученого, в пушкинской сказке поп не просто одурачен, он лишается ума ‒ кара, которая в «Медном всаднике» обрушивается на бедного Евгения и которая вряд ли могла приниматься поэтом за более благополучную развязку для наказуемого, особенно в контексте стихотворения «Не дай мне бог сойти с ума... ».
В анализе «Сказки о рыбаке и рыбке» особое внимание Д.Н. Медриш уделяет финалу, в котором переосмысляются принятые в фольклоре нормы речевого поведения. Сказочное действо завершается молчаливым приговором: «ничего не сказала рыбка», что является нарушением закона «сказано – сделано». В отличие от фольклорных сказок аналогичного содержания у Пушкина «кара за жадность никем не предсказывается и совершается в полном молчании» [7, с. 55].
Почти «детективная» история спора о том, что было раньше: сказка Пушкина или аналогичные сказки из сборников А.Н. Афанасьева, А.Ю. Глиньского и других собирателей, ‒ разрешается с помощью все той же финальной сцены, необычность которой, ее расхождение с традициями народной волшебной сказки, по мнению Д.Н. Медриша, являются «весьма убедительным доказательством первичности пушкинского текста» [5, c. 139].
Жанровая природа завершающей цикл «Сказки о золотом петушке» определена самим Пушкиным однозначно как сказка. Однако исследователи, «рассматривая жанровые признаки этого произведения, сразу же сталкивают- ся с тем, что это как будто и не сказка и в то же время нечто такое, что только в связи со сказкой и может быть понято» [8, с. 100]. Отсюда следуют утверждения, что «перед нами не сказка» [9, с. 229–236] и что «Золотой петушок» ‒ это «сказка-мистификация» [3, с. 55].
На первый взгляд, «Сказка о золотом петушке» демонстрирует верность русской народно-сказочной традиции, например, в выборе имени «славного царя», широко использовавшегося в лубочных сказочных историях. Конечно, не отрицается и связь этой сказки с «Легендой об арабском астрологе» Вашингтона Ирвинга, в переложении которой Пушкин допускает некую вольность, предлагая такие повороты сюжета, которые в изложении Ирвинга отсутствуют, принимая, таким образом, другой курс ‒ «подальше от Ирвинга, поближе к русскому фольклору» [Там же, с. 57].
По мнению Д.Н. Медриша, введенные поэтом новые сцены ‒ «плод пушкинской фантазии», опиравшейся в том числе на так называемые турцики (предсказания о гибели Турецкой империи, которые имели широкое хождение еще с допетровских времен) и рассказы о Петре Первом, его соратниках и наследниках. «Именно в турцике находим мы как раз тот поворот сюжета, который отсутствует у Ирвинга, но внесен Пушкиным в “Сказку о золотом петушке”: властитель расправляется со звездочетом. В турциках Пушкину, очевидно, дорога была мысль о неизбежном крахе силы, лишенной нравственных устоев» [8, с. 106].
Трансформируется и образ царя Додона, который у В. Ирвинга ‒ «кровожадный старый хищник, наслаждающийся истреблением врагов с помощью талисмана, данного ему арабским астрологом», а у Пушкина ‒ «царь, склонный царствовать “лежа на боку”» [2, c. 216]. Если исходить из фольклорной нормы, представляющей «хорошего царя», то Дадон ведет себя недостойно, «наоборот» ‒ «он прежде всего “ложный” царь» [12, с. 148]. Его царское слово дается всерьез, а затем бесстыдно нарушается. Это двойное нарушение: «действием не подкреплено слово, во-первых, сказочное и, во-вторых, царское. Нарушены все законы речевого поведения ‒ и жанровые, сказочные, и общефольклорные. Если в “Сказке о царе Салтане” действие закона “сказано ‒ сделано” поддержано удвоенной мотивировкой, то в “Сказке о золотом петушке” этот закон нарушен удвоенным отрицанием» [8, с. 116]. Еще Анна Ахматова отметила, что, в отличие от других «простонародных» сказок Пушки- на, в «Сказке о золотом петушке» отсутствует традиционный сказочный герой [1, с. 25]. Пожалуй, единственным персонажем, исполняющим «функцию положительного героя в борьбе со злом и восстановлении справедливости» [4, с. 182], становится золотой петушок. Однако Д.Н. Медриш полагает, что дело «не только в отсутствии главного персонажа, но в его парадоксальной подмене, в передаче его функций и поступков другому лицу, совершенно не подходящему для этой роли» [8, с. 112]. Царь Дадон вместо положенных в волшебной сказке трех сыновей, имеет только двух, поэтому роль третьего сына, решающего все задачи, приходится играть самому Дадону. Найдя обоих сыновей убитыми, царь тут же поступает вопреки традиции ‒ он завыл, значит, запричитал, в то время как причитания ‒ дело не мужское, а женское: «Причитания Дадона близки фольклорным плачам. Но и это ‒ пародия: Дадон именно воет ‒ самым комическим образом, громогласно, аффектированно» [9, с. 235]. Вытье Дадона вступает в противоречие не только с поэтикой фольклорной сказки. «Ложный» герой принимает на себя прямо противоположную роль героя-протагониста, и роль эта уже не сказочная, а антисказочная, пародийная.
Обозначив в своем анализе «Сказки о золотом петушке» отказ от сказочной идиллии, от принятых в волшебной сказке речевых норм, Д.Н. Медриш делает закономерный вывод, что на последнем месте в цикле находится «по виду сказка, а по существу нечто противоположное. Антисказка» [8, с. 108].
Рассматривая, как в пушкинском цикле проявляется мера сказочности, Д.Н. Медриш замечает, что он «зиждется на единой жанровой основе, но это жанровое начало сперва гиперболизируется (“удвоенная” сказка о Салта-не), затем как бы дается в натуральную величину (“собственно сказки” ‒ “Мертвая царевна” и “Балда”), чтобы после несостоявшейся “Сказки о золотой рыбке” прийти к полному отрицанию этого начала в антисказке “О золотом петушке”» [Там же, с. 125]. Тезис В.С. Непомнящего, считавшего, что «в цикле сказок Пушкина повторилась ‒ по-своему, отраженно ‒ история разрушения жанра древней сказки» [9, с. 258], получил в книге Д.Н. Медриша дальнейшее развитие и наполнился конкретным содержанием: согласно заключению ученого, сказки располагаются в цикле в порядке убывающей сказочности. От сказки к сказке нарастает отклонение от воплощенного в сказочном идеале пути к добру и справедливо- сти, и чем оно значительнее, тем страшнее неотвратимое возмездие, тем поучительнее урок.
Вышедшая четверть века назад книга «Путешествие в Лукоморье» не только позволила по-новому прочитать цикл пушкинских сказок и тем самым приблизить его к читателю, но и стала важным методологическим посылом для исследователей проблемы пушкинского фоль-клоризма, суть которого, как показал Д.Н. Мед-риш, не в прямом следовании фольклорной традиции, а в ее углублении и смелом творческом переосмыслении.
Список литературы Путь в Лукоморье: "сказки" Пушкина в исследованиях Д.Н. Медриша
- Ахматова А. О Пушкине: Статьи и заметки. М., 1989. 3-е изд.
- Волков Р.М. Народные истоки творчества А. С. Пушкина (баллады и сказки). Черновцы, 1960.
- Желанский А. Сказки Пушкина в народном стиле. Л., 1936.
- Лупанова И.П. Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины XIX века. Петрозаводск, 1959.
- Медриш Д.Н. Прямая речь в структуре повествования волшебной сказки//Вопросы русской и зарубежной литературы: Уч. зап. Волгогр. пед. ин-та им. А.С. Серафимовича. Волгоград, 1970. Вып. 30. С. 137-147.
- Медриш Д.Н. Слово и событие в русской волшебной сказке//Русский фольклор. Т. XIV: Проблемы художественной формы. Л.: Наука, Ленингр. отделение, 1974. С. 119-131.
- Медриш Д.Н. «Все в безмолвии чудесном..» (Паралингвистический элемент в структуре пушкинской сказки)//Язык и стиль. Метод, жанр, поэтика. Волгоград: , 1977. С. 50-60.
- Медриш Д.Н. Путешествие в Лукоморье. Сказки Пушкина и народная культура. Волгоград: Перемена, ВГПУ, 1992.
- Непомнящий В. Поэзия и судьба. М., 1987.
- Новиков Вл. «Что за прелесть эти сказки!»//Лит. газета. 1995. 8 февр.
- Новикова Марина. Пушкин в зеркале фольклора//Новый мир. 1995. № 4. С. 242-244.
- Сапожков С.В. Жанровое своеобразие сказок А.С. Пушкина 1830-х годов (проблема цикла): автореф. дис.. канд. филол. наук. М., 1988.
- Соймонов А.Д. А.С. Пушкин//Русская литература и фольклор: (первая половина XIX в.). Л., 1976. С. 143-209.
- Топоров В.Н. Древо мировое//Мифы народов мира. М., 1980. Т. 1. С. 389-406.