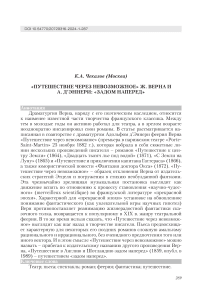«Путешествие через невозможное» Ж. Верна и А. Д'Эннери: «Задом наперед»
Автор: Чекалов К.А.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 1 (68), 2024 года.
Бесплатный доступ
Драматургия Верна, наряду с его поэтическим наследием, относится к наименее известной части творчества французского классика. Между тем в молодые годы он активно работал для театра, а в зрелом возрасте неоднократно инсценировал свои романы. В статье рассматривается написанная в соавторстве с драматургом Адольфом д’Эннери феерия Верна «Путешествие через невозможное» (премьера в парижском театре «Porte-Saint-Martin» 25 ноября 1882 г.), которая вобрала в себя сюжетные линии нескольких произведений писателя - романов «Путешествие к центру Земли» (1864), «Двадцать тысяч лье под водой» (1871), «С Земли на Луну» (1865) и «Путешествие и приключения капитана Гаттераса» (1866), а также юмористической повести «Фантазия доктора Окса» (1872). «Путешествие через невозможное» - образец отклонения Верна от издательских стратегий Этцеля и погружения в стихию необузданной фантазии. Эта чрезвычайно зрелищная музыкальная постановка выглядит как движение вспять по отношению к процессу становления «научно-чудесного» (merveilleux scientifique) во французской литературе «прекрасной эпохи». Характерной для «прекрасной эпохи» установке на обновленное понимание фантастического (как увлекательной игры научных гипотез) Верн противопоставляет реанимацию жизнерадостной фантастики сказочного толка, возвращается к популярному в XIX в. жанру театральной феерии. В то же время нельзя сказать, что «Путешествие через невозможное» выглядит как шаг назад в творчестве писателя. Пьеса предвосхищает характерную для некоторых его поздних романов сложную амальгаму рационального и иррационального, без очевидного предпочтения того или иного вектора. И в этом смысле «Путешествие через невозможное» можно назвать - прибегая к издательскому названию другого произведения Верна, «Путешествие в Англию и Шотландию задом наперед» (1859, опубл. в 1989) - путешествием «задом наперед».
Театр, пьеса, спектакль, роман, феерия, фантастика, путешествие
Короткий адрес: https://sciup.org/149145253
IDR: 149145253 | DOI: 10.54770/20729316-2024-1-287
Текст научной статьи «Путешествие через невозможное» Ж. Верна и А. Д'Эннери: «Задом наперед»
Драматургия Жюля Верна, наряду с его поэтическим наследием, относится к наименее известной части творчества французского классика. Между тем сам он придавал сценическому искусству большое значение и, уже вполне утвердившись в амплуа автора монументального цикла «Необыкновенные путешествия», продолжал не только сочинять пьесы, но и соотносить свою прозу с драматургией. В этой связи нередко цитируют письмо Верна своему издателю П.-Ж. Этцелю от 9 декабря 1883 г. по поводу романа «Архипелаг в огне», который не пришелся издателю по вкусу:
Я, разумеется, неизменно и в первую очередь буду стремиться к изложению географических и научных сведений, поскольку именно такова общая задача моего творчества; но, то ли под воздействием моего театрального инстинкта, то ли для пущего воздействия на нашу публику, я намереваюсь как можно больше совершенствовать свои романы, прибегая ко всем возможностям, что предоставляет мне мое воображение [Verne, Hetzel 2002, 203].
«Театральный инстинкт» заявил о себе уже в юном возрасте – первая пьеса была написана Верном в 19 лет. Его сценическая продукция исключительно разнообразна: поклонник творчества Гюго, Дюма и Альфреда де Мюссе, он осваивает историческую трагедию, комедию, водевиль, комическую оперу, причем явно чувствует себя наиболее уверенно в популярных жанрах. Основной массив драматургии Верна был им создан до начала сотрудничества с Этцелем; пьесы, написанные после 1863 г., в сюжетном отношении связаны с теми или иными романами и, по сути дела, представляют собой метатексты. Совершенно особый случай – инсценизация «Вокруг света за 80 дней». Как указывают современные исследователи, в cамом начале 1872 г. Верн сочинил в соавторстве с Эдуаром Кадолем одноименную пьесу, которая, однако, так и не была поставлена; затем пьеса была переработана в роман (он публиковался в газете «Le Temps» с 6 ноября по 22 декабря того же года), а два года спустя Адольф д’Эннери при участии Верна сочинил новую сценическую версию, значительно видоизменив исходный сюжет [Souvilay 2019, 174].
Метатекстуальное начало с наибольшей силой проявилось в трехактной «фантастической пьесе» «Путешествие через невозможное» (премьера в парижском театре «Porte-Saint-Martin» состоялась 25 ноября 1882 г.; режиссер Поль Клэв). Судьба пьесы оказалась непростой: до марта 1883 г. ее сыграли 97 раз, затем текст был утерян, обнаружен в архивах только в ХХ в. и опубликован в 1981 г. – без одной картины [Verne, Ennery, 1981]; полное издание датируется 2005 г. [Verne, Ennery, 2005].
Верн задумал написать «Путешествие через невозможное» еще в середине 1870-х гг., причем вначале планировал сделать это в одиночку. Между тем руководители театра вынудили его продолжить сотрудничество с уже упоминавшимся маститым драматургом Адольфом д’Эннери – ранее «тандем» уже сочинил три пьесы по романам Верна. Замысел, ставший достоянием публики, крайне неодобрительно встретил Л. Этцель-младший, в письме отцу осудивший уже само название будущей пьесы:
Верн всюду носится со своей идеей постановки под названием «Через невозможное» <…> Полная чушь, даже если книга окажется шедевром, само название – настоящий удар по такого рода продукции. Не «невозможное» надо сочинять, а «необыкновенное», но ведь отвадить этого бретонца от его вздорных замыслов – дело почти безнадежное [Verne, Hetzel 2002, 79].
Реакция Этцеля-младшего, в полной мере солидарного со своим отцом в понимании магистральной линии верновской прозы (и в навязывании писателю этой линии), вполне предсказуема (стихия «необыкновенного», «extraordinaire», стала для Этцелей, говоря современным языком, своего рода издательским брендом), хотя и свидетельствует об игнорировании им запросов именно театральной аудитории. Тема «невозможного» ассоциировалась у последней с жанром сценической феерии, очень популярным у массовой аудитории XIX в. Среди самых известных образцов жанра во Франции – «Курочка, несущая золотые яйца» А. д’Эннери и Л.Ф. Клер-виля (премьера – 29 ноября 1848 г. в театре «Cirque Olympique»). По мнению одного из обозревателей, постановка представляла собой «самый сумасбродный, какой вы только можете себе представить, забег в область невозможного» [Baraille 1860, 2]. Хитроумный сказочный сюжет (основанный на басне Лафонтена) пришелся публике по вкусу не меньше, чем изящно поставленные балетные номера, пышные декорации и костюмы; постановка была с успехом возобновлена в 1860 и 1873 гг.
Как уже говорилось, тот же А. д’Эннери стал одним из соавторов «Путешествия через невозможное», так что типологическое родство двух постановок выглядит вполне закономерной. Однако к моменту написания пьесы Жюль Верн – под воздействием издательских стратегий Этцеля – уже снискал репутацию мастера «научного романа», в творчестве которого познавательное, а то и дидактическое начало сочеталось с увлекательностью. В предшествующих сценических работах тандема Верн – д’Эннери по сравнению с верновской прозой наблюдалось стремление к усилению развлекательного начала и нагнетению «спецэффектов», сгущению комических красок, упрощению сюжетной канвы, варьированию системы персонажей. Трудно сказать, в какой мере указанные особенности были привнесены в постановки популярным и плодовитым драматургом (известным прежде всего по исторической мелодраме «Две сиротки», 1874), а в какой – самим Верном. Так или иначе, они присутствуют как в пьесах «Вокруг света за 80 дней» (премьера в театре «Porte-Saint-Martin» 7 ноября 1874 г.) и «Дети капитана Гранта» (премьера состоялась 26 декабря 1878 г. в том же театре), так и в сценической версии не слишком, казалось бы, пригодного для такого рода препарирования романа «Михаил Строгов» (премьера в более престижном театре «Châtelet», 17 ноября 1880 г.). Не являясь в полном смысле слова феериями, спектакли эти включали в себя отдельные элементы указанного жанра, так что в прессе в их отношении можно было встретить определение «научная феерия».
Вполне естественно, что степень «научности» в театральных версиях знаменитых романов оказывалась ниже, нежели в прозе. Эмиль Золя, исходя из собственного представления о «научном» компоненте литературного текста, упрекал постановку «Вокруг света за 80 дней» за банальность и искусственность интриги. Его весьма едкий отзыв об этом спектакле в первую очередь был обусловлен сомнительностью, с точки зрения знаменитого писателя, самой идеи «научной феерии»:
Разумеется, я прекрасно понимаю причины успеха. Начать с того, что на сцену выводят живого слона. Кроме того, две или три картины отличались красочностью постановки. Публика приходила всей семьей, родители приводили своих барышень и мальчишек в награду за хорошее поведение. Педагоги рекомендовали посмотреть этот спектакль. Вообще-то, если уж возникает какое-нибудь модное поветрие, то неизбежно весь Париж становится его жертвой. Признаюсь, я отдаю предпочтение феерии. Она, по крайней мере, ни на что не претендует. А вот машинерия наподобие «Вокруг света за 80 дней» раздражает меня тем, что находятся люди, которые говорят о ней всерьез как о сочинении, способном воспитывать народные массы. Я по-другому понимаю научный подход к театру [Zola 1968, 450].
«Путешествие через невозможное» выглядит как ответ Верна и д’Эн-нери на критику Золя, как возвращение от «научно-чудесного» зрелища к феерии традиционного толка. Именно в этом жанровом ключе и воспринимается сюжет, научная составляющая которого близится к нулю; пьеса представляет собой образец буффонной рекомбинации сюжетных линий и персонажей «классических» сочинений Верна и одного «неклассического». Есть основания охарактеризовать пьесу как своеобразное озорное попурри на тему верновских произведений разных лет: четырех романов – «Путешествие к центру Земли» (1864), «С Земли на Луну» (1865), «Путешествие и приключения капитана Гаттераса» (1866) и «Двадцать тысяч лье под водой» (1871), а также юмористической повести «Фантазия доктора Окса» (1874). Эта повесть ранее уже стала предметом инсценизации (премьера – 26 января 1877 г., театр «Variété»). Музыку к опере-буфф «Доктор Окс» сочинил Жак Оффенбах, что во многом способствовало успеху постановки; либретто – А. Мортье и Ф. Жилль; Верн тоже принимал участие в работе, но его имя в итоге оказалось изъятым. Тот же Оффенбах написал еще одну оперу-буфф, «Путешествие на Луну» (премьера – 26 октября 1875 г. в театре «Gaîté»), однако к «лунной» дилогии Верна она имеет весьма отдаленное отношение. Что же касается «Капитана Гаттераса», то в 1871–1872 гг. Верн набросал общий сценарий пьесы под названием «Северный полюс» на основе романа, привлек к работе одного из своих соавторов – упоминавшегося уже Эдуара Кадоля, но так и не довел дело до конца [Roques 2010, 8]. В одном из писем Верн следующим образом описывает свой замысел, явно сориентированный на «научную феерию»:
Мне взбрело в голову, что из «Гаттераса» можно извлечь постановочную драму нового типа – панорамическую драму. Там можно было бы представить полярное сияние, китов, бури, кораблекрушения – в общем, множество не виданных прежде в театре вещей. Затерянного во льдах американца я заменил бы на француза, с тем, чтобы он развернул на полюсе трехцветный флаг! У меня уже готов занятный сценарий, а поскольку газеты любезно пожелали мне написать феерию, я не вижу причин не попытаться сочинить эту драму [Verne, Hetzel 2002, 164].
Патриотический акцент, который Верн хотел привнести в инсценировку «Гаттераса», отсутствует в весьма космополитическом «Путешествии через невозможное», зато «панорамичность» представлена в полной мере. Действие пьесы начинается и заканчивается в Дании, в замке Андер-нак (налицо явное созвучие с названием зловещего замка Андернатт из ранней новеллы Верна «Мастер Захариус», 1854), а затем герои перемещаются под землю, под воду и взмывают в небеса. В «Путешествии через невозможное» с высокой степенью свободы переплетаются отдельные сюжетные узлы прозы Верна. Так, авторы пьесы вновь обращаются к затронутому в нескольких произведениях Верна мифу об Атлантиде. В романе «Двадцать тысяч лье под водой» мифологема приобретает амбивалентную трактовку: впечатляющая подводная экскурсия к затонувшему материку – царству мертвых становится еще и своеобразным паломничеством, которое увенчивается озарением: профессор Арронакс словно бы прикасается к таинству творения, одерживает символическую победу над неумолимым временем [Foucrier 2004, 52]. Атлантида представлена в романе одновременно и как мрачное апокалиптическое видение, и как возможность «почерпнуть новые силы в историческом прошлом», в утраченной древней гармонии [Pasquier 2003, 16]. Что касается «Путешествия через невозможное», то здесь экзистенциальная, философская составляющая мифа нивелируется, зато авантюрная и зрелищная стороны максимально акцентированы. Во втором акте, после красочного подводного путешествия, герои оказываются в столице атлантов – городе Махимосе, в архитектуре которого смешаны, как сказано в ремарке, «мавританский, арабский и мексиканский стили». Смешение цивилизаций указанными элементами не ограничивается, ведь здесь присутствуют и пророчица Электра, и жрец Аммон. Атланты словно бы только и ждали появления среди них протагониста пьесы, Жоржа де Травенталя (по ходу пьесы выясняется, что он приходится сыном капитану Гаттерасу). Жоржу предстоит стать верховным правителем Атлантиды и взять в жены принцессу Селену.
Герои пьесы (помимо Жоржа, это влюбленная в него Ева, доктор Окс, позаимствованный из написанного в том же 1882 г. романа «Школа робинзонов» танцмейстер Тартеле, а также выступающий под различными личинами капитан Немо) лихо преодолевают не только пространство, но и время: из прошлого (Атлантида) они переносятся в будущее (полет на планету Альтор в пушечном ядре).
В «Путешествии через невозможное» установка на зрелищность приобретает самодовлеющий характер, а педагогическая составляющая почти исчезает. Диалоги строятся на стыке драмы и комедии [Montaclair 1996]; герои путешествуют под водой, под землей и в космосе благодаря волшебному зелью, научные мотивации приобретают онирический характер. Серьезные научные проблемы (невесомость, например) трактованы в гротескно-фарсовом, вплоть до откровенной клоунады, ключе. Многочисленные хореографические номера на свой лад демонстрируют волшебный мир, рациональное познание которого неотделимо от любования диковинами (особенно в эпизоде на планете Альтор, которая временами неуловимо перекликается с образом французской столицы в романе «Париж в ХХ веке», и в самом начале спектакля, в сцене «Святой Михаил с драконом»). Опускаясь под землю, герои оказываются среди сталактитов, которые напомнили современникам «внутренность грота в парке Монсо» [Mortier 1883, 451]. Эта откровенная условность была в порядке вещей и соответствовала восприятию пьесы как сказочного действа.
Верн и д’Эннери остроумно обыгрывают контраст, в серьезной форме трактованный в романах французского классика: достижения современной цивилизации // архаическое прошлое. При этом в пьесе и в помине нет апологии современности; устами Вольсиуса (он же капитан Немо) авторы иронически оценивают прогрессивное общественное устройство Альтора:
Здесь все идет как нельзя лучше, и даже слишком! Ведь под влиянием прогресса все сделались невероятно учеными. Сапожники сочиняют стихи, а булочники – астрономические трактаты. Зато рабочих не хватает, так что нам придется законодательно ввести всеобщую и обязательную необразованность [Verne, Ennery 1981].
С помощью особо усовершенствованных телескопов герои пьесы разглядывают с Альтора французскую столицу, и здесь авторская ирония достигает своего апогея:
А что это за странный город, по которому извивается речка и над которым возвышается большой холм? Там видны памятники, площади и великое множество людей, причем зимой они суетятся в тумане, а летом – в облаке пыли?
Тартеле (в сторону). А, тот самый город, который не поливают. Наверняка Париж.
Вольсиус. Мы очень отчетливо разглядели там какую-то большую площадь, с одного боку которой находится мост, а перед этим мостом – дворец, где собирается целая толпа озабоченных людей. Судя по всему, говорят они много, а вот договориться не могут.
Вальдемар. Знаю, знаю эту местность, я там бывал. Мост этот именуется мостом Согласия, а дворец – дворцом Разногласия… то есть, я хотел сказать – палатой депутатов [Verne, Ennery 1981].
Интересная особенность постановки – протеистичность, мерцатель-ность образа капитана Немо, который впитывает в себя других верновских персонажей (он же Вольсиус, органист собора в городе Андернак; он же профессор Лиденброк из «Путешествия к центру Земли»; он же Мишель Ардан из романа «С Земли на Луну»). Немо из пьесы заметно отличается от своего романного прообраза и оказывается воплощением благочестия, упрекает своих современников за гордыню и утрату Божественного начала. Не исключено, что религиозный пафос пьесы, в которой можно усмотреть критику сциентистской идеологии [Dehs 2019], был привнесен в нее именно д’Эннери.
Финал пьесы складывается из двух частей: апокалиптическая, в духе извержения вулкана в «Таинственном острове», и сказочно-оптимистическая – Вольсиус, обретая черты всесильного демиурга, переносит героев с погибшего в катастрофе Альтора на Землю. Отдавая в финале дань традиционному для жанра апофеозу, авторы пьесы вместе с тем придают развязке совершенно не свойственный Верну религиозно-экстатический акцент.
Мнения критиков по поводу пьесы разделились. «Декорациями восхищаешься, словно это картины в музее» [X… 1882], – писал один из обозревателей; другие справедливо отмечали присутствие в спектакле сказочных мотивов. В то же время авторитетный театральный ежегодник «Les An-nales du théâtre et de la musique» дал весьма скептическую характеристику содержательной стороне пьесы, усмотрев в ней приправленный мистикой неудобоваримый коктейль из разных сочинений Верна. По мнению известного театрального критика Эдмона Стуллига, характерная для мелодрам д’Эннери слезливая мещанская мораль проникла в данную постановку и обесценила научный пафос верновского творчества [Stoullig 1882, 336]. Автор монографического очерка о феерии Поль Жинисти безоговорочно приписал авторство пьесы д’Эннери [Ginisty 1910, 214–215]. Нашлись, правда, и те, кто упрекнул д’Эннери именно за то, что он связался с Верном: «к несчастью, эти многочисленные путешествия через невозможное сбили его с пути, который ведет к подлинным вершинам драматического искусства» [Hoche 1883, 191].
Таким образом, «Путешествие через невозможное» знаменует собой отступление Верна от накатанной колеи «научного романа», отход от зафиксированных в его контрактах с Этцелем жестких педагогических установок в пользу чистой феерии. Но можно ли на этом основании считать пьесу шагом назад в творчестве писателя? На наш взгляд, нет. Несмотря на всю ее внешнюю легковесность, несмотря на непроясненность в ней авторского голоса, она предвосхищает смену оптики Верна в отношении фантастического. В некоторых своих поздних романах – например, в «Замке в Карпатах» (1892) и в «Тайне Вильгельма Шторица» (1898, опубл. 1910) [Чекалов 2022, 234–239] – Верн предстает не столько как первопроходец научной фантастики, но как жанровый экспериментатор, неустанно взыскующий нового баланса между рациональным и иррациональным. Фантастика в этих сочинениях Верна не тождественна ни его ранней «гофманиане», ни его научно-техническим гипотезам, развернутым в классических романах цикла «Необыкновенные путешествия»; логическое, материальное объяснение тайны в них присутствует, но не исчерпывает загадки полностью. Известнейший исследователь творчества писателя Оливье Дюма выразил эту мысль в весьма радикальной форме: у позднего Верна имеет место «фантастическая стихия, освобожденная от псевдонаучных мотивировок» [Dumas 1988, 91].
Нам представляется, что феерия «Путешествие через невозможное» в известной степени символизирует собой движение писателя «задом наперед». Соответствующая вербальная конструкция – «à reculons» – была неоднократно использована в произведениях Верна. Так, в написанной по велению Этцеля второй версии финала «Капитана Гаттераса» впавший в «полярное безумие» и неизменно влекомый к северу Гаттерас, гуляя по аллее, пятится задом. Парадоксальный тип движения описан и в романе «Цезарь Каскабель» (1890), который первоначально должен был именоваться «Задом наперед» [Dehs 2006, 37]; герои романа, бродячие французские актеры, добираются из Америки в Нормандию через замерзший Берингов пролив. Наконец, он присутствует в малоизвестном раннем произведении Верна «Путешествие в Англию и Шотландию задом наперед» (соч. в 1859, опубл. в 1989) – здесь герои (их прототипы – Жюль Верн и его приятель, композитор Аристид Иньяр) плывут из Нанта в Ливерпуль долгим кружным путем, через Бордо. Для Верна движение «задом наперед» – символ внешне парадоксального и едва ли не сомнительного, но неуклонного и продуктивного движения к заветной цели.
Список литературы «Путешествие через невозможное» Ж. Верна и А. Д'Эннери: «Задом наперед»
- Чекалов К.А. Очерки истории и типологии французской массовой прозы XIX – начала XX века. СПб.: Нестор-История, 2022. 288 с.
- Baraille A. Courrier des théâtres // La presse théâtrale et musicale. 26-08-1860. P. 1–2.
- Dehs V. Curiosités de la scène vernienne. De quelques apocryphes (?) dramatiques (avec 3 lettres de Jules Verne) // Bulletin de la Société Jules Verne. 2006. № 160. P. 33–44.
- Dehs V. Un carrefour des Voyages extraordinaires: La pièce “Voyage à travers l’impossible” (1882) // Carnets. 2019. № 15. URL: http://journals.openedition.org/carnets/9069 (дата обращения: 14.01.2024).
- Dumas O. Jules Verne. Lyon: La Manufacture, 1988. 519 p.
- Foucrier Ch. Le mythe littéraire de l’Atlantide (1800–1939). Grenoble: ELLUG, 2004. 378 р.
- Ginisty P. La Féerie. Paris: Louis-Michaud, 1910. 240 р.
- Hoche J. Les Parisiens chez eux. Paris: Dentu, 1883. 467 р.
- Montaclair F. Une pièce de Jules Verne: Voyage à travers l’impossible (1882) // Coulisses. 1996. № 13. URL: http://journals.openedition.org/coulisses/3978 (дата обращения: 14.01.2024).
- Mortier A. Les soirées parisiennes de 1882. Paris: Dentu, 1883. 549 р.
- Pasquier R. Jules Verne écrivain frontalier // Francofonia. 2003. № 44. Р. 5–20.
- Roques S. Du roman à la scène: le théâtre à l’oeuvre chez Jules Verne // Les Voyages extraordinaires de Jules Verne: de la création à la reception. Amiens: Université de Picardie Jules Verne, 2010. URL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03148007/document (дата обращения: 14.01.2024).
- Souvilay B. Adaptation transmédiatique Le Tour du monde en série animée hispano-japonaise // Jules Verne et la culture médiatique. De la presse du XIXe siècle au steampunk / éd. par G. Pinson, M. Prévost. Laval: Presses de l’Universite de Laval, 2019. P. 169–192.
- Stoullig E. Le Théâtre de la Porte Saint-Martin // Les Annales du théâtre et de la musique. 1882. Vol. VIII. Р. 319–339.
- Verne J., Ennery A. D’. Voyage à travers l’impossible: pièce fantastique en 3 actes. Paris: J.-J. Pauvert, 1981. 119 p. URL: https://fr.wikisource.org/wiki/Voyage_%C3%A0_travers_l%E2%80%99Impossible (дата обращения: 06.03.2024).
- Verne J., Ennery A. D’. Voyage à travers l’impossible: féérie en trois actes et vingt tableaux. Nantes: l’Atalante, 2005. 202 р.
- Verne J., Hetzel J. Correspondance inédite. T. III: (1875–1886). Genève: Slatkine, 2002. 423 p.
- X…Voyage à travers l’impossible // Vert-vert. 05-12-1882. P. 2.
- Zola E. Oeuvres complètes. T. XI: Oeuvres critiques II. Paris: Cercle du livre précieux, 1968. 830 p.