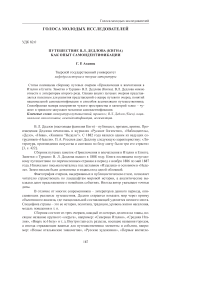Путешествие В.Л. Дедлова (Кигна) как опыт самоидентификации
Автор: Атаянц Гаяне Рафаеловна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 1, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена сборнику путевых очерков «Приключения и впечатления в Италии и Египте. Заметки о Турции» В.Л. Дедлова (Кигна). В.Л. Дедлова можно отнести к литераторам второго ряда. Однако анализ путевых очерков представляется полезным для развития представлений о жанре путевого очерка, понятий национальной самоидентификации и способов ассимиляции путешественника. Своеобразная манера восприятия чужого пространства и категорий «свое - чужое» в травелоге запускают механизм самоидентификации.
Литература путешествий, травелог, в.л. дедлов (кигн), национальное самосознание, самоидентификация, ассимиляция
Короткий адрес: https://sciup.org/146281350
IDR: 146281350 | УДК: 82.0
Текст научной статьи Путешествие В.Л. Дедлова (Кигна) как опыт самоидентификации
В. Л. Дедлов (настоящая фамилия Кигн) – публицист, прозаик, критик. Произведения Дедлова печатались в журналах «Русское богатство», «Наблюдатель», «Дело», «Нива», «Книжки “Недели”». С 1882 года являлся одним из ведущих сотрудников «Недели». П. А. Россиев дает Дедлову следующую характеристику: «Литература, произведения искусства и скитания по белу свету были три его страсти» [3, с. 422].
Сборник путевых заметок «Приключения и впечатления в Италии и Египте. Заметки о Турции» В. Л. Дедлова вышел в 1888 году. Книга посвящена полугодовому путешествию по перечисленным странам в период с ноября 1886 по май 1887 года. Изначально письма печатались под заглавием «Издалека» в основном в «Неделе». Затем письма были дополнены и изданы под одной обложкой.
Фактография очерков, выдержанных в публицистическом стиле, позволяет читателю странствовать по ландшафтам мировой истории, а аналитические выкладки дают представление о новейших событиях. Иногда автор указывает точные даты.
В отличие от многих современников – литераторов данного периода, описывающих реальные путешествия, Дедлов старается показать мир через призму объективного анализа, где эмоциональной составляющей уделяется немного места. Специфика страны – это ее история, политика, традиции, уровень жизни населения, модель поведения и т. п.
Сборник состоит из трех очерков, каждый из которых делится на главы, носящие название крупного «округа», например: «Северная Италия», «Средняя Италия», «Вверх по Нилу» и т. д. Внутри глав есть разделы, носящие названия городов, а иногда отражающие важные для путешественника элементы и события, например: «Новые итальянские знакомства», «Русские художники», «Первые впечатле- ния», «Воющие дервиши» и т. д. Несмотря на свойственную запискам и заметкам фрагментарность и визуальное разделение, переходы от одного локуса к другому в повествовании совершаются плавно. При этом путешествие динамично, метафоричность образов и выборочное тонкое описание деталей позволяют погрузиться в незнакомый мир. Россия упоминается очень часто, так же часто происходят встречи с русскими: «А насколько начинаешь тосковать и по России и по всему русскому за границей, можно судить по госпоже М. В России она говорит, и ей легче говорить по-французски; за границей и она, и ее общество ведут беседу не иначе, как по-русски» [Там же, с. 127]. В данном случае можно говорить о языке как средстве самоопределения.
Категории пути и границы, важные для литературы путешествий, представлены слабо в случае с Италией – страной, близкой и понятной русским путешественникам. Но данные категории проявлены в описании Египта и Турции. Яркая картина прибытия в Турцию и сложности с посещением страны ввиду недостатка документов отражают оппозицию «Запад – Восток». Пересечение границы оказывается сложным делом, но с помощью консула путешественники достигают цели. Египет и Турция представляются более чуждыми, чем Италия, это проявляется и в подзаголовках заметок, например: в случае с Италией разделы чаще обозначаются названиями городов, в египетских и турецких главах встречаются экзотические подзаголовки «Танцовщицы», «Пир у каннибалов» и др.
В самом начале книги автор характеризует предстоящее путешествие следующими словами: «Оставив свой уезд, свою землю, я, к сожалению, надолго расстанусь с подробностями и из человека с корнями превращусь в верхогляда-туриста, игралище ветров» [2, с. 1]. Однако автора данного повествования нельзя назвать человеком, оторвавшимся от корней. Например, во Флоренции путешественники встречаются и разговаривают только с русскими: «Наши флорентийские знакомства ограничились здешней русской колонией. Радушное семейство М., дом г-на С и князя Г. <…> наш консул; наш священник; живописцы Соколов и Пименов; пианист Пименов, сын известного скульптора; молодой скульптор Дахович; архитектор Ягн» [Там же, с. 129].
В связи с этим выводы о жителях Флоренции даны на основе самых поверхностных оценок: «Во Флоренции народ какой-то совсем особенный. Поймать средний тип очень трудно. Кровь капризничает и наряду с красавцем создает такое рыло, что хоть святых выноси» [Там же, с. 114].
Общение с иностранцами и характеристики, которыми они наделены, выявляют отличия автора от «чужих». Как отмечал М.М. Бахтин, «мы ставим чужой культуре новые вопросы, каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответы на эти наши вопросы, и чужая культура отвечает нам, открывая перед нами свои стороны, новые смысловые глубины» [1, с. 355]. Автор создает не только яркие пейзажи, раскрывает характеры и погружает в незнакомый мир, но также формирует представления о национальном сознании. Например: «Какие они печальные, эти северные итальянцы! Такие же печальные, как их глаза, которые поражают своим грустным выражением» [2, с. 54]; или: «Странные люди, эти северные итальянцы. Тихие, смирные, вежливые и уж слишком сдержанные. С ними можно говорить целые часы и ничего не добиться, кроме общих фраз, чрезвычайно гладких и чрезвычайно бессодержательных» [Там же, с. 60].
Чужое представляет опасность, а местные жители не заслуживают доверия: «Римлянин, как я уже сказал, скуп и непредприимчив, он большой циник в душе и до крайности вежлив по наружности. На улице вас никто не толкнет, но легко могут ограбить» [Там же, с. 174]. Россия – это не просто пространство и присущие ему особенности; для автора это и различные русские живописцы, скульпторы, с которыми он встречается в Риме: «Между тем в Риме наша душа была в России больше, чем в настоящей России» [Там же, с. 149]. Россия – собирательный образ, и любое соприкосновение с составляющими элементами этого образа вызывает у путешественника теплые чувства.
Также контраст своего и чужого проявляется непосредственно в языковой картине, в сопоставлении коммуникации с иностранцами и русскими. Обнаруживаются ценности и культурные особенности различных национальных общностей, например, в разговоре с итальянцем из Неаполя: «Мы болтаем кое-как по-французски. Он говорит больше о том, что Италия ужасно великая страна. Я рассказываю ему, что такое двадцать градусов мороза, сугроб, метель, казак, поп, боярин. Он слушает с интересом, начинает понимать, но всё сбивается на старое: вдруг спросит, часто ли у нас волки врываются в императорские театры» [Там же, с. 321–322]. В данном случае примечательно, что язык выбран чужой для обоих, но разговор идет о национальных особенностях.
Приключения автора разделяют и его приятели, это придает своеобразную форму познания чужого. Например, замена «я» на «мы», когда не конкретизируется, кто дает оценки, разделяет участников диалога на гостей и хозяев, путешественников и местных жителей. Примечательным является следующий диалог в Сан-Марино с военным министром, министрами иностранных и внутренних дел, членом правительствующего совета Т.:
«– Как же поживает республика? Спросили мы.
– Слава Богу, хорошо. Ответил хор государственных мужей.
– В каком положении внутренняя политика?
Государственные мужи тревожно переглянулись, и один из них незаметно толкнул генерала. Он у них был речистый» [Там же, с. 95].
В большинстве случаев описания коммуникативных актов читателю неизвестно, на каком языке изъясняются собеседники, за исключением диалогов с русскими. Но также встречаются итальянцы, немцы, англичане, египтяне, турки и др. В основном диалог строится по принадлежности собеседников к определенной социальной или профессиональной группе. Успешным речевым актом можно считать тот, где путешественник получает максимально содержательный ответ, относящийся к другой культуре. Неудачный речевой акт создает предпосылки для негативной характеристики собеседника: «Болонский профессор В. был ни печален, ни раздражителен, а просто уныл» [Там же, с. 62].
Таким образом, хотя, по мнению Дедлова, «Заграничный турист обязан быть туристом, обязан забыть себя, отречься от отечества и быть за границей душой и телом» [Там же, с. 149], в травелоге сильно заметна «тоска по родине», а описание «другого» открывает возможность к более глубокому осознанию «своего».
Об авторе:
Список литературы Путешествие В.Л. Дедлова (Кигна) как опыт самоидентификации
- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. 423 с.
- Дедлов В. Л. (Кигн) Приключения и впечатления в Италии и Египте. Заметки о Турции. СПб., 1888. 482 с.
- Россиев П. А. Памяти В. Л. Кигна (Дедлова)//Русский архив. 1908. № 7. С. 419-424.