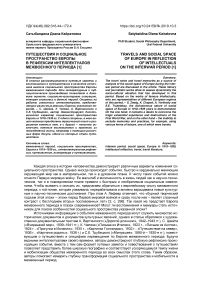Путешествия и социальное пространство Европы в рефлексии интеллектуалов межвоенного периода
Автор: Сатыбалдина Диана Кайратовна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 10, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются путевые заметки и воспоминания о путешествиях в качестве источника анализа социального пространства Европы межвоенного периода. Эти литературные и публицистические произведения позволяют в динамике оценить социально-культурную ситуацию, которая сложилась в данный период. Опираясь на работы известных интеллектуалов, представлявших различные регионы Европы указанного периода, - С. Цвейга, К. Чапека, А. Вертинского и С.Е. Трубецкого, автор демонстрирует дихотомический характер социального пространства Европы в 1918-1939 гг. С одной стороны, в него вошло желание преодолеть трагический опыт и разрушения военных лет, а с другой - попытка исключить военные воспоминания и практики из повседневной жизни, например с помощью различных форм досуга, одной из которых стали путешествия.
Межвоенный период, социальное пространство, европа в 1918-1939 гг, интеллектуальная рефлексия, путешествия, литература о путешествиях
Короткий адрес: https://sciup.org/149133847
IDR: 149133847 | УДК: 94(48).082:316.44+172.4 | DOI: 10.24158/fik.2019.10.3
Текст научной статьи Путешествия и социальное пространство Европы в рефлексии интеллектуалов межвоенного периода
Каждая эпоха в истории человечества демонстрирует различные варианты изменения социального пространства. Однако иногда происходят события, быстро и кардинально меняющие окружающий мир как в материальном, так и в духовном плане. К числу таких событий можно отнести Первую мировую войну. Ее масштаб и включенность в жизнь людей как в научно-техническом, так и в повседневном плане привели к быстрым и необратимым социальным изменениям. Чтобы выявить и описать их, предлагаем обратиться к европейскому опыту межвоенного периода, к той почве, которая усваивала, перерабатывала и активно взращивала новые культурные и научно-технические достижения. При этом А. Лефевр отмечает, что «бурный творческий подъем этой эпохи – эпохи перед Первой мировой войной и сразу после нее – являет странный контраст с бесплодием вторых послевоенных лет» [2, с. 296]. Так какой же предстает Европа межвоенного периода в глазах современников? Могут ли воспоминания и мемуары стать источником для поиска особенностей социального пространства указанной эпохи?
Источниками информации о событиях межвоенного периода могут служить множество исторических документов и документов культурных явлений, однако в статье обратимся к художественно-документальным текстам А. Вертинского («Дорогой длинною», 1942–1943 гг.), С. Цвейга («Вчерашний мир», 1939–1941 гг.), К. Чапека («Письма из Италии», 1923 г., «Письма из Англии», 1924 г., «Прогулка в Испанию», 1930 г., «Картинки Голландии», 1932 г., «Путешествие на север», 1936 г., «Картинки родины», 1936 г.) и С.Е. Трубецкого («Минувшее», 1890-й – 1930-е гг.), повествующим о путешествиях и специфике перемещения по Европе межвоенного периода. Будучи видными интеллектуалами своего времени, авторы демонстрируют глубокую рефлексию происходящих событий, вместе с тем сам формат путевых заметок и повествований о путешествиях позволяет представить более широкую географию и соответствует ускоряющемуся темпу жизни и мобилизации общества межвоенного периода во всех смыслах этого слова. Таким образом, авторы помогают измерить глубину трансформаций социального пространства и мобильности в межвоенный период.
«Все течет, все меняется»: специфика социального пространства и туризма в Европе межвоенного периода. Первая мировая война послужила катализатором множества социальных и культурных изменений. Мир стал теснее. Многие территории, казавшиеся до этого далекими, стали ближе благодаря новым и усовершенствованным видам транспорта, коммуникациям. Пространства постепенно перестали считаться чем-то непреодолимым, а география стран – чем-то стабильным и неизменным. Имперские системы подверглись значительным изменениям после Первой мировой войны и, согласно К. Сиксу, сами по себе стали «транснациональными структурами». Также исследователь отмечает, что «пространство империи – это не только то, что можно присвоить или пересечь; это также фактор, который определяет, создает и поддерживает культурные, социальные и политические отношения. Бюрократы в колониях, администраторы в европейских метрополиях или антиколониалисты, выезжающие за границу, поддерживали различные социальные отношения в различных географических регионах» [3, p. 432].
В связи с этим можно утверждать, что «изменчивые географии» и изменения типов и систем социальных связей в международной коммуникации являются важным индикатором переструктурирования социального пространства. Более того, А. Лефевр считает, что именно в межвоенный период впервые можно говорить о «производстве пространства», признании его роли. А. Лефевр подчеркивает, что баухауз способствовал концептуализации пространства, и «в этот момент (около 1920 г., после Первой мировой войны) в наиболее развитых странах (Франции, Германии, России, США) обнаруживается связь, уже сложившаяся на практике, но пока не рационализированная: связь между индустриализацией и урбанизацией, между локусами труда и местами проживания. Будучи включена в теоретическую мысль, она немедленно превращается в проект и даже программу» [4, с. 132]. Баухауз и искусство межвоенного периода становятся для А. Лефевра способом обозначения и репрезентации нового послевоенного мира, формирующим абстрактные социальные пространства [5, с. 293].
Найти подтверждения подобного рода изменениям можно не только в архитектуре, но и в сфере медиа, которая преобразилась в период Первой мировой войны и стала влиять на общественное мнение. С одной стороны, «Первая мировая война привела к полному разрушению этой глобальной системы распространения новостей. Когда государства Европы готовились к войне, богато украшенная медная паутина глобальных коммуникаций начала рваться, поскольку воюющие стороны уничтожали телеграфные кабели на суше и под морем» [6, p. 270], с другой – сформировалась целая информационная сеть, транслирующая мнения различных политических течений, идеологий, партий, культурных групп. Политическая повестка проникла даже в спортивные медиа, которые активно формировались по всей Европе в начале XX в.
В межвоенный период европейские города продолжали меняться: на смену привычным пешим, конным и малоавтомобилизированным маршрутам приходят велосипеды [7, с. 29, 286], общественный транспорт, личные автомобили, что меняет карту городских повседневных мобильностей, прокладывая новые маршрутные сети [8, с. 307], «сочетание субурбанизации населения и перемещения рабочих мест в периферийные районы приводило к все более сложным поездкам через город, которые было очень трудно выполнить с использованием общественного транспорта, который работал на фиксированных маршрутах» [9, p. 261]. Продолжали меняться порты и железнодорожные вокзалы, которые должны были соответствовать возросшему пассажиропотоку, усовершенствованным кораблям и поездам. Не случайно К. Чапек в своих воспоминаниях отмечал, что его современник-путешественник начинает и заканчивает знакомство со страной с центрального вокзала столицы [10, с. 285].
Фланер конца XIX в., странствующий по городским улицам и созерцающий пассажи мегаполисов, описанный В. Беньямином [11], в межвоенный период преобразуется во фланера международного масштаба – туриста, при этом разработанное В. Беньямином понятие ауры остается и ярко проявляется в предложенных для анализа литературных произведениях. С. Цвейг приводит следующие воспоминания об этом периоде: «Наше поколение… приняло временную передышку как нежданный подарок. Было такое чувство, словно мы должны наверстать все, что украдено из нашей жизни мрачными военными и послевоенными годами… мы путешествовали, экспериментировали, заново открывали для себя Европу, мир. Никогда еще не путешествовали так много, как в эти годы…» [12, с. 259]. По мнению С. Цвейга, даже маленький Зальцбург менял свое лицо каждое лето благодаря наплыву туристов аристократического происхождения [13, с. 275].
Доступность новых видов транспорта, способных достаточно быстро доставить человека в далекие страны (поезда, пароходы) или позволяющих совершить загородную поездку выходного дня (автомобили и велосипеды), наличие свободных выходных дней и отпусков привели к росту туристической мобильности. Так, например, «до введения в 1938 г. недельного оплачиваемого отпуска домашнее кинопроизводство и средиземноморские каникулы были доступны главным образом архитекторам, врачам, химикам и другим специалистам, а также представителям новых средних классов, богатство которых базировалось на промышленности и торговле» [14, p. 17].
Интересно, что вышеописанные факторы способствовали развитию новых способов документации событий, запечатления воспоминаний и репрезентации туристического опыта. Даже действия зародившихся в буржуазной модерной культуре детективов перемещаются в поезда и океанские лайнеры. Самый яркий пример – «Убийство в “Восточном экспрессе”» А. Кристи (1934), чья популярность и актуальность для читателей и режиссеров сохраняется по сей день.
Спутником туриста, позволяющим документировать события в межвоенный период, становятся фото- и киноаппараты. В начале 1920-х гг. компания «Кодак» на фоне развития новых форм туризма и роста его популярности стала продвигать портативное кинооборудование (включавшее камеру, проектор и экран), что привело к росту количества фотолюбителей [15, p. 13–14]. Более того, что интересно, именно любительское кино, а не работы профессиональных режиссеров стали первыми представлять (хоть и для небольшого количества) зрителей тему туризма и путешествия, а по мере роста визуализации туристического опыта и путешествий начали выявляться и утверждаться новые направления туристической мобильности [16, p. 17].
В целом следует отметить, что Европа межвоенного периода представляла собой сложную пространственную структуру дихотомического характера. С одной стороны, мы наблюдаем бум различных форм досуга, среди которых туристическая мобильность и путешествия, с другой – люди пытались вернуться к привычным формам повседневной жизни. Это сопровождалось желанием исключить травматический опыт прошлого из жизни, но разруха и тяжелая экономическая ситуация продолжали напоминать о себе инфляцией, разграбленными особняками и отелями, ограничением в продовольствии, как это было, например, в Австрии и России.
Путевые заметки и воспоминания о путешествиях как интеллектуальная рефлексия над изменениями социального пространства Европы межвоенного периода. Подтверждением вышеупомянутых тенденций является рефлексия европейских интеллектуалов межвоенного периода. Описывая свой опыт поездок и путешествий, они показывают особенности жизни и преображения Европы, преодолевающей последствия военных лет. Важными чертами путевых заметок и описаний путешествий являются изначальное включение в текст сравнительного анализа различных стран в один период времени, а также наличие множества ярких описаний окружающей действительности. Для анализа подобных литературных произведений некоторые авторы используют термин « трэвелог » (дословный перевод с английского: лекция о путешествии с показом видео- или фотоматериалов; литературное произведение с рассказом о путешествиях). Так, описывая традицию репрезентации путешествий, Х. Николсон отмечает, что «связанные с путешествиями тексты и любительские фильмы также разделяют то, что Марк Кокер называет “смешанной родословной”. <…> И путевые заметки, и любительские фильмы – это гибридные формы, которые смешивают факты и вымысел, действительность и изобретение. Более того, многие любительские кадры путешествий поддерживали стиль, который сочетал прямое последовательное наблюдение с минимальным редакторским вмешательством. Сюжетные линии, как правило, формируются из последовательности сжатых временных и физических реальностей. Явная визуальная изобретательность во многом зависела от компетентности, ресурсов и предпочтений отдельного режиссера. <…> Сюжетные линии часто были простыми: реальные путешествия чередовались с временными и пространственными встречами в подлинных условиях заграницы или, по крайней мере, в условиях, незнакомых автору» [17, p. 19].
Интересные и важные мысли о том, каким образом утвердился жанр путевых заметок и воспоминаний, находим у Д. Тротта, который особую роль в этом вопросе отводит возможности безопасных путешествий/перемещений, появившейся в межвоенный период. Он считает, что именно возможность безопасно путешествовать и при этом иметь возможность «рискованных приключений» обусловила появление жанра путевых заметок, а важными факторами, влияющими на писателя, становятся развитая транспортная инфраструктура и скорость передвижения транспорта. Поэтому для писателя «транзит был, по сути, временем, проведенным в ожидании начала пространства: отрицанием заранее особого смысла и ценности путешествия – вакуумом, который писатель не столько представлял, сколько заполнял и наполнял всякой всячиной. Путевые заметки, как можно было видеть, возникли диалектически из истории, которая не была ни биографической, ни общей. Они были реакцией не только на романтику путешествий, но и на трудности, которых невозможно было избежать с первых лет XX в., сжатия пространства-времени: ускоряющегося преобразования пространственного расстояния во временные длительности все более короткого промежутка с целью эффективного и прибыльного движения товаров, капитала, труда, данных, идей и идентичностей» [18, p. 11].
Вышесказанное позволяет констатировать важность литературы о путешествиях. Представляя собой пересечение пространства, времени и различных культурных явлений, она позволяет выстроить многогранное представление об описываемом историческом периоде.
Анализируя воспоминания интеллектуалов о путешествиях и поездках по межвоенной Европе, мы обнаруживаем наличие в сознании европейцев дихотомии переживания послевоенной травмы и желания как можно скорее вернуться к радостям мирной жизни. Так, в описании путешествий по восьми странам Европы чешский писать К. Чапек практически не упоминает прошедшую недавно войну, ограничиваясь описаниями массовых событий другого характера. Он пишет, что «в нынешней Европе дела обстоят так, что путешественнику, прежде чем ехать в какую-нибудь страну, не мешает осведомиться, не происходит ли там гражданская война, государственный переворот или какой-нибудь конгресс» [19, с. 368]. Именно по причине нестабильной политической ситуации писателя отговаривали от посещения Ирландии, где на воздух взлетают мосты и даже поезда [20, с. 148]. Заметки К. Чапека наполнены оптимизмом и радостью от встречи с новыми странами и формируют ощущение того, что весь мир находится в движении.
Первая мировая война обострила множество межнациональных вопросов, однако в работах К. Чапека мы скорее сталкиваемся с человеком космополитичным – в лице как самого автора, так и части тех людей, которых он описывает. «…Пожалуй, вовсе не мелочь, если в этой чужой стране путник больше чувствует себя хозяином и человеком, чем в любом другом месте на свете» [21, с. 354] – таким предстает турист межвоенных лет у К. Чапека. Повышение уровня мобильности европейцев, а также внутриевропейской миграции привело к формированию сложносоставных идентичностей. Крупные города наполняются мигрантами и путешественниками из других стран, меняя их привычное лицо: «Я возвращался тогда из Лондона ошеломленный, подавленный, разбитый душой и телом; впервые в жизни я почувствовал слепую, яростную ненависть к современной цивилизации. <…> Знаю только, что первое впечатление от этой громадной толпы было почти трагическим» [22, с. 83–84]. Подтверждения подобных изменений городской среды мы находим и в описании С. Цвейгом послевоенной Вены. Подобные замечания авторов в большей степени относятся к крупным городам и туристическим центрам. Углубляясь в страну, К. Чапек пытается выявить и описать ее национальные особенности, которые проступают через одежду, устройство быта и литературу, которую автор заметок считает самым ярким проявлением национального: «…Никакие объединения наций не могут быть такими всеобъемлющими, как литература. Только люди еще недостаточно ценят ее, вот в чем беда; вот почему они все еще могут чуждаться и ненавидеть друг друга» [23, с. 327–328], а пересечение порой ничем не примечательной границы – это перемещение в новое культурное пространство [24, с. 177] и возможность открыть для себя новый мир.
Во всех путешествиях К. Чапек отмечает ускорившийся темп жизни людей. В одних странах это выражалось в толчеях на улицах, в других представлено непривычными до недавнего времени транспортными средствами, например велосипедом или автомобилем. Европеец межвоенного периода встречается с новым мобильным, шумным мегаполисом, в котором мы живем до сих пор: «Никогда в жизни я не примирюсь с тем, что здесь называется traffic … <…> Сначала меня везли в поезде, потом мы бежали по каким-то бесконечным застекленным залам… Затем мы очутились в туннеле или канале с рельсами, с ревом примчался поезд, меня швырнули в вагон, и поезд полетел дальше…» [25, с. 83]. И даже несмотря на всю многомерность, подвижность и техничность Лондона, описанную К. Чапеком, писатель считает, что континентальная Европа ничуть не отстает в темпе своей жизни от островной Великобритании, демонстрирующей в своей повседневной жизни больше шума и меньше упорядоченности [26, с. 167].
На протяжении всего повествования К. Чапек избегает упоминания сложностей адаптации к послевоенному миру и проблем, с которыми столкнулись как страны, так и каждый отдельный человек. Он завершает цикл путешествий «Приветами», которые заканчиваются такими словами: «Я знаю, народы сегодня так ужасно далеки друг от друга, что поневоле в голову лезут черные мысли; правда, многое вызывает злобу, и говоришь: никогда не забудем того, что произошло. <…> Но – вот вспоминается Англия, и встает перед глазами красный домик в Кенте… И понимаешь, что хочется с ними поздороваться… <…> И все; для того, чтоб людям было хорошо вместе, особых рассуждений не требуется! Что поделаешь, так страшно далеки народы друг от друга; и чем дальше, тем больше одиноки. <…> Но закроешь глаза и тихо, совсем тихо шепчешь: “How do you do, старый человек из Кента? Grüẞ Gott, meine Herren! Grazia, signor! A votre santé!”» [27, с. 580–582].
На наш взгляд, подобная авторская рефлексия подтверждает существование двойственной ситуации, выраженной в переживании травм Первой мировой войны и желании окунуться с головой в жизнь без войны, которую мы обозначили ранее. Каким бы новым, ярким и меняющимся ни был окружающий мир, рефлексирующий человек не может не замечать последствий войны: исчезнувшие империи, измененные границы, боль от утраты миллионов людей.
Несколько другой дискурс повествования встречаем в воспоминаниях А. Вертинского. В его тексте нет попыток скрыть или преодолеть двойственность послевоенного, а в его случае еще и послереволюционного мира. Осознавая весь масштаб последствий Первой мировой войны, А. Вертинский, будучи эмигрантом, подмечает, что «после утомительной и долгой войны, потребовавшей сильного и длительного напряжения всех сил страны, люди устали. Войну забыли моментально, как дурной сон. Как будто никогда и не было сражений на Марне, у Вердена, Лувена, разрушенных городов, миллионов убитых. <…> Никакая фантазия Гойи не могла бы создать более страшные маски. И огромные толпы народа, стоявшие по обеим сторонам широких парижских авеню, в ужасе отворачивались от этих призраков войны» [28, с. 188–189].
Являясь видным деятелем культуры начала XX в., А. Вертинский был вполне типичным европейцем межвоенного периода. Как и миллионам европейцев, ему пришлось справляться со сложностями послевоенных и постреволюционных лет. Как и тысячи людей, он решился сменить место жительства, мигрировав из родной страны; как и другие европейцы, он много путешествовал по разным странам. При этом сам артист не мог выявить решающие мотивы, которые подвигли его к подобным переменам в жизни: «До сих пор не понимаю, откуда у меня набралось столько смелости, чтобы… так необдуманно покинуть родину. Сесть на пароход и уехать в чужую страну. Что меня толкнуло на это?.. Задавая себе этот вопрос сейчас, через столько лет, я все еще не могу найти у себя в душе искреннего и честного ответа. <…> Очевидно, это была просто глупость» [29, с. 122–123]. В воспоминаниях А. Вертинского можно встретить уже привычные нам описания дорог, транспорта и общественной жизни. Впечатления от тягот поездок по разбитым и полуразвалившимся дорогам Бессарабии [30, с. 146] сочетаются с описанием идейной разобщенности русской миграции. Данная ситуация подогревалась удаленностью СССР и небольшим количеством информации, которая из него поступала. При этом русская эмиграция пыталась включить элементы ушедшей повседневности в заграничную жизнь. Все тяготы жизни в миграции, с которыми столкнулся А. Вертинский, вынудили его вернуться на родину, что отличает его от тех деятелей культуры и искусства, которые не могли этого сделать по политическим причинам (белая эмиграция) или ввиду исчезновения родной страны (Австро-Венгрия).
Далее обратимся к воспоминаниям С.Е. Трубецкого, покинувшего страну на знаменитом «философском пароходе», и австрийского писателя С. Цвейга, чьи воспоминания о межвоенном периоде и особенно о первых послевоенных/постреволюционных годах пронизаны бо́льшим трагизмом, чем у авторов, рассмотренных ранее.
«Философскому пароходу» С.Е. Трубецкого, описанному в мемуарах, предшествовали смена социального статуса и тюремное заключение, поэтому предложение покинуть страну воспринималась им как подвох или провокация, как возможность получить обвинения в подготовке побега за границу. Предложение уехать стало для С.Е. Трубецкого потрясением: «Надо знать общую обстановку в те времена, чтобы понять всю чудовищную неожиданность такого предложения. Получить разрешение на выезд за границу было почти невозможно даже для самого безобидного советского гражданина; я же был присужден к “строжайшей изоляции”, числился заключенным Таганской тюрьмы и, вдобавок, был одним из заложников за “белые убийства”… Я был поражен» [31, с. 316–317]. Сергей Евгеньевич довольно подробно описывает свою «отправку» в Германию. В отличие от искрящихся юмором заметок К. Чапека, в воспоминаниях С.Е. Трубецкого мы сталкиваемся с ощущениями тревоги, страха и недоверия. Это совершенно не туристический опыт, продолжающий традиции беньяминовского фланера, но тем не менее он в полной мере отражает специфику европейского социума 1918–1939 гг.
У С.Е. Трубецкого мы встречаемся с опытом «поднадзорной поездки», разительно отличающейся от описаний К. Чапека, который подробно рассказывает, как он исследовал вагон, все его детали и приспособления, рассуждал о степени комфорта вагонов разных стран. «Для высылаемых нашей группы и сопровождающих их семей был отведен целый вагон 3-го класса… По всей вероятности, “пассажиры”, допущенные в вагон, были на службе ГПУ. В частности, недалеко от нас сидела женщина с грудным ребенком на руках. <…> На одной из станций, где наш поезд долго стоял, двоим из нас разрешили пойти за кипятком… Ходившие за кипятком видели, как за столом в станционном буфете сидела ехавшая вместе с нами женщина в компании чекистов в форме, а ее “ребенок” стоял прислоненным к стулу» [32, с. 324].
Эмоционально строки С.Е. Трубецкого перекликаются с воспоминаниями С. Цвейга о послевоенной Австрии, для которого поезд был не символом современности и мобильных возможностей, а зеркалом ушедшей империи, австрийские вагоны отражали состояние австрийского общества: «Истощенные, голодные, изрядно пообносившиеся проводники, которые указывали места, едва волочили ноги… <…> В разбитые окна с резким осенним ветром залетали сажа и шлак скверного бурого угля… но его чад хоть немного смягчал резкий запах йода, напоминавший о том, как много больных и раненых перевезли во время войны эти остовы вагонов. <…> Из мирной жизни я сразу окунулся в ужас войны, которая, как ошибочно полагал, уже закончилась» [33, с. 228–229].
Данному описанию предшествовала не менее важная сцена прощания с наследником императора. Этот фрагмент С. Цвейга наглядно демонстрирует, насколько Первая мировая война изменила Европу и насколько был разрушен привычный порядок вещей в жизни людей: «Доблестная череда Габсбургов… заканчивалась в эту минуту. Все вокруг ощущали в этот момент историю, мировую историю. <…> …Почти тысячелетней монархии действительно пришел конец. Я знал, что Австрия уже другая, что мир, в который я направлялся, уже не тот» [34, с. 228].
Схожей экзистенциальной глубиной обладает и описание С.Е. Трубецким прибытия «философского парохода» в Германию. В нем прослеживается объединение Европы межвоенного периода в связи с пережитыми трагическими событиями, которые тем не менее имели свои региональные особенности: «На благоустроенной пристани стояло несколько упитанных немцев с толстыми, налитыми пивом животами… – “Ну, видно, немцы за войну не похудели! – заметила Соня Щербакова, – у них все по-прежнему…” Конечно, это поспешное суждение было неправильно: в Германии за время войны очень многое изменилось, но для нас, приехавших из страны, пережившей катаклизм, менее резкие изменения в других странах могли казаться на первый взгляд несущественными или даже несуществующими» [35, с. 327–328].
Благодаря заметкам, мемуарам и дневникам интеллектуалов первой половины XX в. становится возможным тесное соприкосновение со временем-пространством межвоенной Европы. Как отмечает С. Цвейг, «за эти полстолетия произошло больше существенных преобразований и перемен, чем обычно за десять человеческих жизней. <…> …Между нашим настоящим и прошлым, недавним и далеким, разрушены все мосты» [36, с. 6].
В завершение подчеркнем, что благодаря охватывающим множество стран путевым заметкам, воспоминаниям о поездках и перемещениях, в структуру и сюжет которых положен сравнительный анализ, можно сформировать представление о социальном пространстве Европы межвоенного периода. Технический прогресс, увеличение интереса к туризму, возможностям сохранить и воспроизвести свой опыт путника или туриста, рост социальной и пространственной мобильности – все это привело к популяризации жанра путевых заметок. Они были представлены не только текстовыми элементами в мемуарах и воспоминаниях, но и отдельными произведениями. При этом авторы этих произведений могли не подозревать, что они, подобно первым исследователям-антропологам, вели летопись своей эпохи, со всеми ее проблемами, достижениями и особенностями.
Ссылки и примечания:
Список литературы Путешествия и социальное пространство Европы в рефлексии интеллектуалов межвоенного периода
- Лефевр А. Производство пространства / пер. с фр. И. Стаф. М., 2015. 432 с
- Six C. Challenging the Grammar of Difference: Benoy Kumar Sarkar, Global Mobility and Anti-Imperialism Around the First World War // European Review of History: Revue européenne d'histoire. 2018. Vol. 25, iss. 3-4. P. 431-449. DOI: 10.1080/13507486.2018.1439887
- Лефевр А. Производство пространства / пер. с фр. И. Стаф. М., 2015. С. 132.
- Лефевр А. Производство пространства / пер. с фр. И. Стаф. М., 2015. С. 293.
- Чапек К. Путешествия. М., 1988. 608 с
- Чапек К. Путешествия. М., 1988. С. 307.
- Pooley C., Turnbull J., Adams M. The Impact of New Transport Technologies on Intraurban Mobility: A View from the Past // Environment and Planning A: Economy and Space. 2006. Vol. 38, iss. 2. P. 253-267.
- DOI: 10.1068/a37271
- Чапек К. Путешествия. М., 1988. С. 285.
- Беньямин В. Бодлер / пер. с нем. С. Ромашко. М., 2015. 224 с
- Цвейг С. Вчерашний мир. М., 2004. 352 с
- Цвейг С. Вчерашний мир. М., 2004. С. 275.
- Nicholson H.N. Through the Balkan States: Home Movies as Travel Texts and Tourism Histories in the Mediterranean, c. 1923-39 // Tourist Studies. 2006. Vol. 6, iss. 1. P. 13-36.
- DOI: 10.1177/1468797606070584
- Nicholson H.N. Through the Balkan States: Home Movies as Travel Texts and Tourism Histories in the Mediterranean, c. 1923-39 // Tourist Studies. 2006. Vol. 6, iss. 1. P. 13-14.
- DOI: 10.1177/1468797606070584
- Nicholson H.N. Through the Balkan States: Home Movies as Travel Texts and Tourism Histories in the Mediterranean, c. 1923-39 // Tourist Studies. 2006. Vol. 6, iss. 1. P. 17.
- DOI: 10.1177/1468797606070584
- Nicholson H.N. Through the Balkan States: Home Movies as Travel Texts and Tourism Histories in the Mediterranean, c. 1923-39 // Tourist Studies. 2006. Vol. 6, iss. 1. P. 19.
- DOI: 10.1177/1468797606070584
- Trotter D. Mobility, Network, Message: Spy Fiction and Film in the Long 1930s // Critical Quarterly. 2015. Vol. 57, iss. 3. Special Issue: The Long 1930s. P. 10-21.
- DOI: 10.1111/criq.12213
- Чапек К. Путешествия. М., 1988. С. 368.
- Чапек К. Путешествия. М., 1988. С. 148.
- Чапек К. Путешествия. М., 1988. С. 354.
- Чапек К. Путешествия. М., 1988. С. 83-84.
- Чапек К. Путешествия. М., 1988. С. 327-328.
- Чапек К. Путешествия. М., 1988. С. 177.
- Чапек К. Путешествия. М., 1988. С. 83.
- Чапек К. Путешествия. М., 1988. С. 167.
- Чапек К. Путешествия. М., 1988. С. 580-582.
- Вертинский А. Дорогой длинною: воспоминания, стихи и песни, рассказы, зарисовки, размышления, письма. М., 1991. 576 с
- Вертинский А. Дорогой длинною: воспоминания, стихи и песни, рассказы, зарисовки, размышления, письма. М., 1991. С. 122-123.
- Вертинский А. Дорогой длинною: воспоминания, стихи и песни, рассказы, зарисовки, размышления, письма. М., 1991. С. 130.
- Трубецкой С.Е. Минувшее. М., 1991. 336 с
- Трубецкой С.Е. Минувшее. М., 1991. С. 324.
- Трубецкой С.Е. Минувшее. М., 1991. С. 327-328.
- Цвейг С. Вчерашний мир. М., 2004. С. 228-229.
- Цвейг С. Вчерашний мир. М., 2004. С. 228.
- Цвейг С. Вчерашний мир. М., 2004. С. 6.