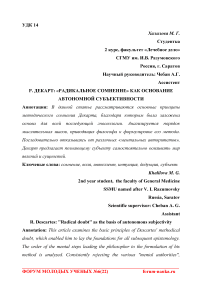Р. Декарт: "радикальное сомнение" как основание автономной субъективности
Автор: Халилова М.Г., Чебан А.Г.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 6-3 (22), 2018 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматриваются основные принципы методического сомнения декарта, благодаря которым была заложена основа для всей последующей гносеологии. Анализируется порядок мыслительных шагов, приводящих философа к формулировке его метода. Последовательно отказываясь от различных «ментальных авторитетов», декарт предлагает познающему субъекту самостоятельно осваивать мир явлений и сущностей.
Сомнение, воля, интеллект, интуиция, дедукция, субъект
Короткий адрес: https://sciup.org/140283693
IDR: 140283693
Текст научной статьи Р. Декарт: "радикальное сомнение" как основание автономной субъективности
Метод, разработанный Декартом и вошедший в историю философии как метод «радикального сомнения», оказал влияние на мысль всех последующих западных (и не только) философов. В XX веке его работы становятся точкой преткновения для Хайдеггера и Фуко, которыми методология Декарта артикулируется как предтеча поворота в философии, знаменующего собой опору мышления на субъект, т.е. «антропоцентрическое» видение мира [4, с. 144]. Вместе с тем нам известны программные доклады Гуссерля, вошедшие в книгу «Картезианские медитации» [1, с. 12-19] и «Картезианские размышления» Мераба Мамардашвиили [2, с. 7-32], ставшие предметом дискуссий в России конца ХХ века. Также мы можем отметить, как картезианство становится чем-то внутренне присущим духу мышления Франции - мы можем наблюдать его влияние не только на строй философских изысканий, проводимых во Франции, но и на стиль многих художественных произведений, написанных в этой стране. В данной статье мы попытаемся показать, на каких основаниях Декартом строился его метод.
Здесь мы должным обратиться к двум ранним сочинениям автора: к незаконченным «Правилам для руководства ума» и «Рассуждению о методе», опираясь на которое Декарт писал свои естественнонаучные работы. Первым, на что мы должны обратить свое внимание, является обращенность автора этих сочинений на интеллект, которому должна подчиняться воля. Воля у Декарта символизирует собой устремленность к непосредственному восприятию, что без знания определенных границ неизбежно уводит от истины. Этот порыв заставляет принимать на веру (вспомним здесь, например, то, как Платон употребляет понятие SoZa), подчиняться авторитету ввиду поспешности. Сама суть метода Декарта покоится на исключении непродуманных выводов; любые чувственные данные должны проходить через процедуру сомнения в пользу самостоятельного их «освоения» человеком. Так открывается область интеллекта, в которой обретается независимость мышления и познавательная способность как таковая. Однако в этой области человек не обладает полной свободой: здесь мышление отдается в пользу того, что Декарт называет здравым смыслом. Эту простоту здравого смысла он сравнивает с проторенной дорогой, путь по которой длиннее, но не сопряжен с риском обращения к не необходимым вопросам [3, с. 100]. Декарт ссылается на общую для человеческого рода способность к благоразумию, которая является общей и для исследователя, и для крестьянина, который не посвятил времени изучению наук, но способен воспринять определенные понятия только благодаря тому, что он человек. Именно исследование того, что излишне очевидно, становится губительным для мысли и отклоняет ее ход в пользу ложных рассуждений.
И для того, чтобы в мысли была возможность не только единожды обратить внимание на очевидное, Декарт создает методологию, в рамках которой возможно продвижение от одного неоспоримого положения к другому. Уже в одном из первых правил он проводит разделение на интуицию ума и дедукцию, которые постулируются как два взаимообусловленных пути достижения истины. Как пишет Декарт, интуиция подобна по своей непосредственности детскому впечатлению. Но вместе с тем он отделяет данные, сопряженные с интуицией, от данных, полученных посредством чувств. Интуитивное не выражается ни в усилии воображения, ни в усилии чувственного восприятия. Наоборот, путем сомнения эти данные должны приводиться в соответствие с отчетливостью, которая предоставляется в интуиции. Здесь и обнаруживается вторая часть методологии: дедуктивный метод определяется как искусство выведения одного положения из другого, все из которых подкрепляются простотой интуитивной очевидности. И если интуитивные положения не сопряжены с разворачиванием их во времени, то дедукция служит способом познания одной вещи через другую и во многом зависит от памяти человека. Поэтому Декарт пишет о необходимости записи мыслительных ходов в виде схем, что позволяет изображать уже «освоенные» положения в виде образов. Например, приходя в исследовании к тому, что может быть изображено в форме прямоугольника, далее, упрощая схему, но удерживая в памяти ход проделанной работы, упростить его до формы линии и т.д. Таким образом, «предполагая известным неизвестное» [там же, с. 87] то есть удерживая себя от излишних побуждений воли (всегда приводящих в замешательство) за счет осознания наличия очевидных положений интуиции, проходит процедура сведения всех сложных вещей к простым. Эти простые вещи определяется как уже не разделяемые на сложные и группируются по нескольким видам: интеллектуальные, материальные и общие [там же, с. 64]. Интеллектуальные вещи не отображаются в виде конкретных образов; такова например, очевидность того, что произошло движение. Разговор о событиях такого рода у Декарта всегда ведется при описании духовной сферы. Материальные вещи связаны с их телесным отображением, а вместе с тем и геометрическим. Таковы понятия фигуры, протяжения. Общие вещи выражают собой связь между духовным и телесным и их примером являются понятия существования и единства. Сложные вещи, как видно из вышеприведенного, всецело принадлежат сфере опыта («неосвоенного») и обращается человек к ним через воображение и чувства.
Таким образом, Декарт в рамках своего метода постулирует полную самостоятельность человека, которая достигается путем радикального сомнения. В самом начале «Рассуждения о методе» он пишет, как в Германии ему пришла мысль о том, что в зданиях, построенных несколькими мастерами, отсутствует та красота, которую мы можем наблюдать в зданиях, возведенных одним мастером единолично. Так и душевный строй человека он мыслит как возведенный в условиях отказа от чьей-либо помощи, – сомневающийся оставляет себе лишь те положения, в которых более не видит примеси чужих суждений. «Что касается мнений, воспринятых мною до сих пор, то самое лучшее – раз навсегда отрешиться от них, чтобы впоследствии водворить на их место лучшие либо те же, но согласованные с разумом. И я твердо верю, что таким способом мне удалось построить жизнь гораздо лучше, чем если бы я строил ее только на старых основаниях, опираясь только на принципы, усвоенные мною в юности без проверки их правильности» [там же, с. 99].
Вместе с тем, в этой самостоятельности человек не может претендовать на законодательную власть в смысле обладания некоторой «личной истиной». Как уже говорилось выше, «сам» отдается на откуп тому, что происходит «само собою», волеизъявительное начало с самого начало подчиняется интеллекту. Интеллект здесь служит синонимом «света разума», истинность которого Декарт доказывает через его происхождение от инстанции Божества. При этом мы можем отметить, что как положения интуиции, так и прилегающие к ним положения дедукции всегда заключают в себе процессуальность. И обосновывая связь мышления с существованием Бога, Декарт отмечает этот момент: «действие, при помощи которого он его [мир] теперь сохраняет, является таким же, как то, посредством которого он его создал» [там же, с. 115]. По этой причине интуитивно и дедуктивно не констатируется факт существования мира, но охватывается процесс его сохранения. Декарт создает метод для достижения истины, но для ее удержания; так создается место, в котором прозвучит знаменитое «я мыслю, следовательно, я существую» [там же, с. 108].
В заключение мы можем заметить, что при внимательном чтении сочинений Декарта наше понимание субъективности не выдерживает проверки на прочность. То, что мы понимаем под «субъективным мнением»
для Декарта только один из путей в области мнений, не нами создаваемых. Мы можем заметить, как мы рефлекторно обозначаем субъективным способ мышления наименее самостоятельный, то есть в котором случайным образом выбирается подходящая позиция. Для Декарта же субъективность обретается в самостоятельности, а значит в подчинении тому, что происходит «само собою». Отмечая эту особенность, мы отнюдь не претендуем на исключение доводов указанных в самом начале мыслителей ХХ века, но лишь предлагаем обратить внимание на то, что путь сопротивления мысли Декарта лежит в другой области.
Список литературы Р. Декарт: "радикальное сомнение" как основание автономной субъективности
- Гуссерль, Э. Картезианские медитации / Гуссерль, Э. Картезианские медитации. Пер. с нем. В.И. Молчанова. - М.: Академический Проект, 2010. - 229 с.
- Мамардашвили, М. Картезианские размышления. / М. Мамардашвили. М.: Издательская группа «Прогресс», 1993. - 352 с.
- Декарт, Р. Сочинения / Пер. с лат. В.И. Пикова, В.В. Соколова и др. - Спб.: Наука, 2015. - 648 с.
- Чебан, А.Г. Мартин Хайдеггер: стратегии господства [Текст] / А.Г. Чебан // Общество риска: цивилизационный вызов и ответы человечества. - ООО «Издательство «Научная книга», 2006. С. 139-145.
- Фахрудинова, Э.Р., Тетюев, Л.И. Человек и образ его внутреннего мира в западной и восточной философской рефлексии // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика. 2017. Т. 17. № 4. С. 410-415.