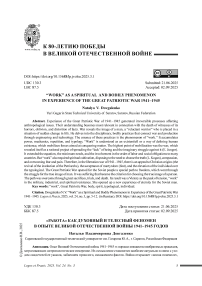«Работа» как духовный и телесный феномен в опыте Великой Отечественной войны 1941–1945 годов
Автор: Довгаленко Н.В.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Статья в выпуске: 3 т.24, 2025 года.
Бесплатный доступ
Опыт Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. породил множество необратимых процессов, затрагивающих антропологическое измерение. Их осмысление становится наиболее актуально в связи с уходом свидетелей ее ужасов, забвением прошлого, искажением фактов. Война открывает «воина поневоле», поставленного в ситуацию внезапного изменения жизненного мира. Он погружается в дисциплинарные, телесные практики, соединившие поле битвы и поле производства, технику и технологию. Их ядром становится феномен «работы», сосредоточивший в себе силу, механицизм, стихийность места, типическое повторение и пр. «Работа» стала экзистенциалом или способом определения человеческого существования, мобилизуя усилия воина-работника, направленные на власть над материей. Высшей точкой выражения этих полей явилась война, раскрывшаяся как рациональный проект распространения «недостатка» бытия и мнимой борьбы с ним (Э. Юнгер). Их выражением стало стремление к уравниванию, минимализации потребностей, вовлечению в порядок трудовой, социальной повинности. Однако «работа» потребовала и духовного возделывания, располагая к необходимости выбора истины (Л. Коган), страданию и состраданию, преодолению страха, боли. Потому в освободительной войне 1941–1945 гг. присутствует невероятное обращение к христианским истокам (возрождение института патриаршества), принятие мученичества в форме подвига, возвышение индивидуального над типологическим. Великая Отечественная война открыла для советского человека особый путь к обретению свободы, который претворился через выбор собственного истинного образа. Именно страдание стало критерием выбора. Путь был пройден через огромные жертвы, испытания и смерть. Его конечным пунктом стала Победа как пик напряжения, «работы» в военном, производственном и духовном сопротивлении, открывшая новый опыт вечности для советского человека.
«работа», Великая Отечественная война, тело, дух, типологическое, индивидуальное
Короткий адрес: https://sciup.org/149150050
IDR: 149150050 | УДК: 130.3 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2025.3.1
Текст научной статьи «Работа» как духовный и телесный феномен в опыте Великой Отечественной войны 1941–1945 годов
DOI:
Цитирование. Довгаленко Н. В. «Работа» как духовный и телесный феномен в опыте Великой Отечественной войны 1941–1945 годов // Logos et Praxis. – 2025. – Т. 24, № 3. – С. 5–12. – DOI: 10.15688/
Невероятная этическая тема, заложенная Великой Отечественной войной 1941– 1945 гг., была открыта в русской мысли еще ранее: поиском «героев времени» художественной литературой XIX в., спором о моральном выборе силы Л.Н. Толстого и И.А. Ильина, осмыслением разрушения образа человека в границах революций начала XX века. Наиболее ясно ее выразил в «Братьях Карамазовых» Ф.М. Достоевский, раскрыв глубину столкновения внутреннего и внешнего, целей и средств достижения: «Вся гармония мира не стоит слезинки одного замученного ребенка». Но в этой мысли заявлен еще один план – соотношение высокой абстракции и частного проявления жизни, боли. Эта этическая нить, по сути, является лейтмотивом всей Великой Отечественной войны, в которой в глубинном смысле столкнулись, срослись два образа – абстрактного воина и живого человека.
Отдаляясь от войны все дальше во времени, мы острее осознаем необратимые процессы, которые она породила в экзистенциальном, духовно-нравственном, цивилизационном измерениях. В данной статье мы затронем лишь один из вопросов, связанных с изменением, борьбой за образ человека, который она поставила через ужас столкновения с нечеловеческим. Основой этого образа стала «ра- бота», раскрываемая совершенно особенно в период Отечественной войны 1941–1945 годов.
В процессе исследования используется методологический подход, связанный с анализом и прояснением понятия «работа», уходящим корнями в святоотеческую и русскую традиции философии и выдвинутым в качестве центрального в трудовой теории марксизма и идее гештальта «рабочего» Э. Юнгера. Данное понятие характеризует один из важнейших способов реализации человеческого образа в период Великой Отечественной войны и рассматривается как экзистенциал для советского воина и труженика. Герменевтический метод позволяет провести изучение, сравнение нарративов и воспоминаний участников Великой Отечественной войны, которые демонстрируют связь «работы» духа и тела.
Война 1941–1945 гг., поднимая вопрос неклассического солдата, «воина поневоле», оторванного от привычных циклов семьи, труда, творчества, ставит его в центр мировых свершений. Ее события вовлекают и ученых, включая философов-теоретиков [Коробов-Латынцев 2021], которые осуществляют невероятную рефлексию самых ужасных деяний. Война вытесняет привычное, замещая собой способ мышления, хозяйствования, быта. Жизнь начинает строиться в ключе дисциплины тела и духа, послушании, подчинении.
Нельзя сказать, что эти практики были абсолютно новыми для советского человека, напротив, целых два десятилетия шло беспрецедентное строительство нового государства, основанное на их использовании. «Издавна существовали многочисленные дисциплинарные методы – в монастырях, армиях и ремесленных цехах» [Фуко 1999, 200]. Именно дисциплинарные методы, касающиеся тела (М. Фуко), порождают новую «политическую анатомию», через которую человеческие силы начинают отделяться от плоти и попадать под манипуляцию власти. Причем методы, которые организуют рабочую силу в процессе производства, могут массово переноситься на военное дело и обратно. В данном смысле перестройка физического плана не потребовала сверхусилий от советского человека. Этот диапазон тактического, вобравший в себя понимание, оценку трудностей, условий труда, орудий и пр., который «воин поневоле» не сразу, но успешно изменил, приспособился.
Однако даже этот поверхностный план, связанный с физическим уровнем и дисциплинарными методами, показывает, что война открывает тело не только формально, но и содержательно; не как простой механизм и материю, а как особую материю, в которой заложено существо страдания. Причем страдание распределяется здесь не в качестве субстанции, не связывается с социальным типом вины, выступая в форме наказания. Страдание актуализировано повсеместно. Оно становится непреложной частью жизни, выступая в качестве произвола, грубого, агрессивного воздействия, распространяясь на все уровни человеческого проявления: детей, немощных стариков, все живое. Страх, голод, потеря близких становятся бесконечными источниками страданий, организуемых намерено. «Пытка опирается на настоящее искусство отмеривания страдания» [Фуко 1999, 51]. Великая Отечественная война предстает как испытание, пытка, выработанная ситуацией погружения в событие насилия. Необоснованность, бессмысленность подобного отношения человека к человеку и делает войну абсурдом. Отечественная война становится абсурдом в квадрате, так как в ней реализуются притязания врага на корректировку человеческого духа, ума, генома, на исключи- тельное право суждения о них. Именно страдание примиряет Великую Отечественную войну с христианством, выражая идею святой жертвы человека ради исключения пытки, прекращения боли и ограничения возможности однобокого суждения об образе человека. «Страдание сообщает нам, “что истинно и что ложно”» [Слотердайк 2009, 17]. Оно становится критерием истины в период войны, оправдывая принесенные жертвы и делая их ненапрасными. Только этот путь ведет к истине, потому страдание становится залогом движения к миру, победе. Это подтверждают и участники Великой Отечественной войны. Л.А. Коган, советский ученый-философ писал: «Мир еще не знал столь общенародного опыта борьбы добра со злом (бери эти понятия в самом широком, общечеловеческом смысле). В этом – нравственная суть Победы» [Коган 1994, 65]. Маршал Г.К Жуков подчеркивал: «Советского солдата отличали глубокое сознание своей освободительной миссии, готовность идти на самопожертвование во имя свободы и независимости Родины, во имя социализма» [Жуков 1986, 102].
Принятие мученичества является одним из важнейших моментов раскрытия в образе советского человека живого, а не абстрактного начала. Война встает на путь снисхождения к страху, слезам, безумию и даже к молитве. Потому христианский образ оказывается востребован и государством (осенью 1943 г. проходит налаживание диалога с представителями Русской православной церкви и возрождение института патриаршества). И в этом справедливо усматривать более человеческое, чем политическое решение. «В освободительной войне, наряду с государственной политикой, активно проявляет себя и то, что можно условно назвать политикой “снизу”», – справедливо замечает Л.А. Коган [Коган 1994, 65].
В образ «воина поневоле» включается еще один важнейший элемент, кардинально измененный XX в. – труд. «Я тогда установил для себя, что война – это на пять процентов сражения и на девяносто пять процентов – всякого рода передвижения и работы», – отмечает А.А. Зиновьев, советский философ и социолог, участник войны [Зиновьев 2015, 118]. Недостаточно быть на войне, нужно уметь воевать. Война – это работа! «Чернорабочие войны» – такое понятие употребляет Л.А. Коган. В философии проявление «работы» как расположенности к земному, технического умения извлекать мощь, движение исследовал, в частности, Э. Юнгер. Он показал в «работе» глубину поглощенности человека многообразием открывшихся сил, раскрыв ее как способ изменения мира посредством техники. В ее проявлении преодолевалось личностное начало. «Здесь можно упомянуть о безымянном солдате, о фигуре которого следует, однако знать, что она принадлежит миру гештальтов, а не миру индивидуальных страданий» [Юнгер 2000, 170]. Действительно, в границах войны творилось невероятное переустройство земли, движение людей, открытие производств, и отдельный человек был погружен в бесконечное движение народных масс. В «гештальте рабочего» отражены стихийность места, ощущение ярости, открывающиеся возможности изменения реальности, с которыми отдельный человек может даже не совпадать, но с которыми он вынужден примиряться. Управлять этими изменениями, усиливать или замедлять их помогали инструменты, орудия. «Полушубки, валенки, телогрейки, теплое белье – все это тоже оружие. Наша страна одевала и согревала своих солдат. А гитлеровские войска не были подготовлены к зиме» [Жуков 1986, 220].
Обнаружить типическое, стать инструментом, стержнем борьбы, найти духовное оправдание – этому учила война. Гештальт поглощал индивидуальное человека и делал «работу» титанической силой, перестраивающей мир. В ней не проявлялись привычные разграничения. «С годами, по мере отдаления тех грозных лет, возникла тенденция стирать различие между фронтом и тылом. Действительно, они были тесно связаны, нераздельны. Люди тыла многим жертвовали для победы» [Коган 1994, 72]. Как страдание не разделяет боя и производства, младенца и старика, так и работа поглощает воина и труженика.
Положительным утверждением является мысль о том, что «гештальт рабочего» не принадлежит ни индивидуальному, ни коллективному, он скорее единица совпавшего в единой точке момента – места и человека, вовлеченных в действие природным или тех- ническим образом, потому в войне крайне велика роль мобилизации, концентрации усилий в ключевой секунде, которые предрешают ход битвы или ее перелом. «Мировая война, как явление ХХ в., представляет собой вовсе не сумму национальных войн. Скорее, в ней следует видеть обширный трудовой процесс, в котором нация играет роль рабочей величины» [Юнгер 2000, 230]. В этом состояло глобальное столкновение трудовых сил различных народов, которые, выражая мощь «гештальта рабочего», были подавлены его стихийностью или сумели перешагнуть ярость типического. Последнее удалось советскому народу. Его пример показал, как духовная сила может вплетаться в действие титанического, «рабочего» начала и при этом переворачивать, разрушать индустриальное и военное превосходство агрессоров.
«Работа» открывает наличие новой цивилизации. «Индустриальная цивилизация... это цивилизация механизма, и рабочий – не-более чем составная часть подобного механизма» [Филатов 2024, 116]. Он часть государственной машины и, создавая социальные институты, удовлетворяет потребность страны в них. В то же время эти социальные ин-стиуты будут его воспроизводить и поддерживать. При этом «гештальт рабочего» требует лишь труда, а не воспроизводства человечности в тех измерениях духа, нравственности, о которых говорит, например, религия. Основой работы становится господство, прежде всего, над материальным миром. Эта тема поглощает и захватывает труженика. Техника и производство становятся силами, помогающими господствовать. Вместе с тем «рабочий у Юнгера – это не представитель “четвертого сословия” и не экономический класс, как у Маркса, а новый экзистенциальный тип человека» [Моисеев 2020, 49]. Удивительная вовлеченность советского человека в трудовой процесс, захваченность строительством нового государства действительно возвышает данный вид экзистенции. Тем не менее во время войны происходит его пересечение с иными экзистенциалами: страданием, ужасом «производственной утилизации» тела, любовью к жизни и пр. Так, в «работе» особое место начинает занимать духовное подвижничество, взращенное исторически хри- стианством и не утраченное, не забытое в новых реалиях времени.
В святоотеческой традиции понятие «работа» подразумевает духовное сосредоточие, телесное превозмогание, борьбу со страстями, развитие терпения, сострадания, мужества отдельного человека. «Охраняющий тело свое от сластей и от болезней имеет в нем соработника в служении лучшему», – отмечает блаженный Диадох [Добротолюбие 2010, 93]. «Работничество» и «соработничество» – важнейшие понятия, открывающие практическое отношение к самому себе и продлеваемые интерпретацией русского духа, русской философской мыслью. «Аскеза не ограничивает творчества; наоборот, она освобождает его, потому что ставит его своей целью как таковое. Здесь на первом месте творческая работа над собой, творческое созидание своего “Я”» [Флоровский 2000, 224], – отмечает, Г.В. Флоровский. Это проявление духовного служения в русском языке получило наименование, которому подобия нет в европейских языках – «по-двиг». Его замечательно иллюстрирует Д.С. Лихачев: «“Подвиг” означает движение, проворство, терпение и знание, знание, знание. И если иностранные словари содержат слова “указ” и “совет”, то они обязательно должны включить лучшее русское слово – “подвиг”» [Лихачев 1984, 11]. Подвиг предстает как невероятное внутреннее осознание себя как части тотальной работы, способной направить мир к жизни. В этом знании происходит не растворение в типическом, не умаление своего образа, а колоссальный рост личности, в процессе которого отметается бренность, самолюбование, гордыня. «Но настоящего солдата меньше всего можно заподозрить в “простоватости”, примитивизме» [Коган 1994, 66]. Он становится бесконечно прозорлив и умен, так как обладает осознанным стремлением к изменению, совпадению с данной силой. Это преображение – работа в отношении к духовному движению «стать более, чем единица», потому в воине-рабочем отсутствует эгоизм и гордыня, в его образе отражено общее дело. «Вот один из священных подвигов. После войны в забитом в ствол дерева патроне была обнаружена записка, оставленная умирающим солдатом, которого вместе с двенадцатью другими бойцами по- слали остановить продвижение немецких танков по Минскому шоссе: “И вот уже нас осталось трое <…> Мы будем стоять, пока хватит духа <…> И вот я один остался, раненный в голову и руку. И танки прибавили счет. Уже двадцать три машины. Возможно, я умру. Но, может, кто найдет мою когда-нибудь записку и вспомнит героев. Я – из Фрунзе, русский. Родителей нет. До свидания, дорогие друзья. Ваш Александр Виноградов. 22.2 1942 г.”» [Си-муш 2020, 74].
Таким образом, вопрос «работы» в рамках Великой Отечественной войны открывается несколькими измерениями, в которые попадает человек. Первое, титаническое, использующие мощь стихий для осуществления господства над землей, материей. Именно техника способствует установлению человека в этом положении, раскрываясь как «орудие», «оружие» и становясь средством выбора для человеческих решений, руководит степенью изменения мира, осуществляет власть. Но ее роль значительнее, она переходит границу «средства», становясь знаком культуры. «Техника – не нейтральный инструмент, не совокупность средств, а язык, и владение или не-владение этим языком образует меру свободы единичного человека в пространстве работы» [Михайловский 2013, 91]. Второе измерение связано с работой как телесным и духовным движением, в котором решающее место отдано по-двигу. Оно реализует умственное, личное усилие, изменяющее человека, ставящее его в условия выбора, заставляющее проявить решимость и приводящее к пониманию собственной роли для движения к созидающему, а не уничтожающему началу.
В данном аспекте действительно важно понимать техническое как важнейшую силу войны отражающую нехватку или «бедность» бытия и стремящуюся его рационально распределить, организовать. «Технический прогресс не ведет к обогащению, но, напротив, старается сделать более эффективным упорядочивание бедности!» [Соловьева 2010, 43]. Нехватка ресурсов достигает апогея в нехватке жизни, ее притеснении, борьбе за жизненное пространство. Внешняя (физическая) работа с вкраплением машинности, иструментальности выступает здесь организующим усилием для поддержания присутствия, распределения сил, власти, благ. Внутренняя работа (духовная, умная) мобилизует человека на «избыточность» бытия, формируясь в борьбе с животным началом, страхом, голодом и пр., она открывает возможность распространения и за-новотворения человечности через выбор: убить или отступить, присвоить или отдать, защитить или подавить. На онтологическом пересечении оказывается «воин поневоле», который одновременно выступает как элемент безымянного, титанического усилия в «работе», выполненной технически, и личного, уникального подвига. «Работа» как духовная «избыточность», порождает феномен «советского солдата», который выступает противовесом рациональной технической мощи врага. Именно он открывает понимание того, что есть Победа и что для ее достижения есть веские основания, заключенные в понятиях справедливости, праведности, человечности, открываемые личным подвигом и собираемые в общее ценное ядро.
Чрезвычайно важный вопрос истирания индивидуального, личного войной слишком претенциозен. Он, безусловно, неверно поставлен. Война проявила прямую необходимость личной свободы как моральной дилеммы, быстроты принятия решений, ответственности. Необходимость внутреннего преодоления страха, экзистенциального переживания. И советский человек демонстрирует стойкость, самоотдачу, которая шокирует врага. «Уже 29 июня в «Фелькишер беобахтер» появилась статья, в которой указывалось: “Русский солдат превосходит нашего противника на Западе своим презрением к смерти. Выдержка и фатализм заставляют его держаться до тех пор, пока он не убит в окопе или не падает мертвым в рукопашной схватке”» [Жуков 1986, 141]. Подобная «работа» – это индивидуальная духовная трансформация себя.
Таким образом, Великая Отечественная война стала важнейшим условием для тяжелого испытания образа советского человека, который в сотворении истории использовал христианский опыт прохождения через ужас, страдание, смерть, воскресение и воссоздал, обрел его в новом историческом моменте, не умалив и не утратив связь с истиной человеческого начала. Этот образ наполнился абсолютно новой тотальностью «работы», где сли- лись техническое и биологическое, где была переписана прежняя реальность, будучи частично уничтожена, частично бесповоротно изменена. С дисциплиной, внутренней работой оказались связаны практики самоотречения, мужества, осознания глобальной роли «маленького человека», которые раскрыли индивидуальный выбор. И во многих воспоминаниях о войне людей, прошедших ее, отмечается, что при всей армейской и производственной муштре, схематизации поведения и мышления продуцировалась невероятная свобода и ясность ценности жизни, подчеркивалась ее красота. Хрупкость существования заставляла человека обращаться к вопросу уникальности каждой жизни, поиску ее экзистенциальных основ и смысла. Именно в Великой Отечественной войне в антропологическом смысле русского самосознания произошло великое столкновение типического, массового и индивидуального, духовного, в которой одержало победу колоссальное личное усилие – человеческая сторона, разметавшая в клочья железо, массовый ужас, голод, боль. Образ советского человека обогатился экзистенциальным опытом и смыслом, который перевернул жизнь, открыл ее заново, потому справедливо утверждать, что после такой трагедии просто невозможно было жить по-старому. Великую Отечественную войну можно определить как ужасное условие случившегося расцвета индивидуальности, практикующей невыносимую «работу» в целях личного и соборного освобождения народов, стран, а также движения (по-двига), связанного с преодолением смерти. «В контексте события Великой Отечественной войны бытие советского народа понимается нами именно в таком ключе – как всецелое жертвенное бытие для мира» [Малахов 2022, 35]. В силу этого, Победа носит не только исторический, но и сакральный характер.