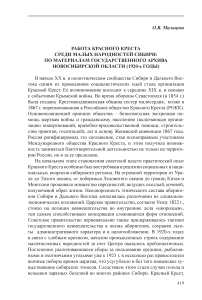Работа Красного креста среди малых народностей Сибири: по материалам государственного архива Новосибирской области (1920-е годы)
Автор: Мальцева О.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XVI, 2010 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521668
IDR: 14521668
Текст статьи Работа Красного креста среди малых народностей Сибири: по материалам государственного архива Новосибирской области (1920-е годы)
В начале ХХ в. в полиэтническом сообществе Сибири и Дальнего Востока одним из проводников социалистических идей стала организация Красный Крест. Ее возникновение восходит к середине ХІХ в. и связано с событиями Крымской войны. Во время обороны Севастополя (в 1854 г.) была создана Крестовоздвиженская община сестер милосердия, позже в 1867 г. переименованная в Российское общество Красного Креста (РОКК). Основополагающий принцип общества – безвозмездная экстренная помощь жертвам войны и гражданскому населению (включающая организацию пожертвований, врачебно-продовольственной помощи, строительство приютов, госпиталей), лег в основу Женевской конвенции 1867 года. Россия ратифицировала это соглашение, став полноправным участником Международного общества Красного Креста, и этим получила возможность заниматься благотворительной деятельностью не только на территории России, но и за ее пределами.
На начальном этапе становления советской власти практический опыт Красного Креста особенно был востребован в решении социальных и национальных вопросов сибирского региона. На огромной территории от Урала до Тихого океана, от побережья Ледовитого океана до границ Китая и Монголии проживало множество народностей, ведущих оседлый, кочевой, полукочевой образ жизни. Неоднородность этнического состава аборигенов Сибири и Дальнего Востока дополнялась различиями их социальноэкономических положений. Царское правительство, согласно Указу 1822 г., стояло на позиции невмешательства во внутренние дела «инородцев», тем самым способствовало консервации сложившихся форм отношений. Советское правительство первоначально также придерживалось тактики государственного невмешательства в жизнь аборигенов, сохраняя льготы административного характера и в налогообложении. В 1920-х годах в связи с хлебным кризисом, началом промышленных строек содержание малочисленных народностей за счет Центра оказалось проблематичным. Постепенно увеличивающиеся сборы за пользование оружием, рыболовными и охотничьими угодьями уже к 1923 г. в несколько раз превосходили ясачные поборы времен царизма, что усугубляло и без того нищенское существование сибирских этносов. Следствием этого стали случаи голода и вспышки заразных болезней во многих районах Сибири. Красный Крест, начавший с 1924 г. работу в рамках Комитета содействия народностям северных окраин, в своих первых отчетах фиксировал наступление голода в районах Васюганья, Нарыма, Шории. В Васюганье голодало 1500 человек, в Кондомском районе – 5000 человек (ГАНО, ф. 354, оп. 1, д. 20, л. 14).
В 1926 г. санитарно-эпидемические отряды Красного Креста, в состав которых входили и этнографы, провели экспедиционные исследования в Нарымском крае. Статистические материалы предшествующего века показывали устойчивую тенденцию вымирания остяцкого населения. В 1805 г. в крае проживало 7461 человек; в 1898 – 3150 (убыль составила 57 %). Т.е. каждый год убывало 47 человек и причина этому была «бедность, лишения, стеснения со стороны завоевателей, купцов, русского населения» (ГАНО, ф. 354, оп. 1, д. 84, л. 2). В списке заболеваний появился сифилис. В обследованных 49 селениях по р. Обь проживало 5345 русских и только 980 остяков. Из числа русских больных сифилисом было 46 человек; остяков – 72 человека. Занесение венерической болезни в Нарымский край шло через торговые контакты между коренным населением и пришлым. Однако комиссия сделала вывод, что кочевой образ жизни сдерживал распространение недуга. В борьбе за существование остяки , ослабленные сифилисом, легко уступали русским свое место «с внедрением последних в остяцкую среду, а сами снимались с своих юрт и уходили в более удобные богатые пушниной места и более отдаленные – вниз по р. Оби» (ГАНО, ф. 354, оп. 1, д. 84, л. 4).
Бытовые особенности, традиционная система питания и труда стали причиной распространения малярии, цинги, против которых у «инородцев» не было иммунитета. Большие физические затраты в промысле, осуществлявшегося в холодной воде или тайге, обусловили передачу по наследству сердечных заболеваний и ревматизма. Причина ослабления потомства скрывалась и в нехватке витаминов, минералов при ограниченной диете, когда в рационе преобладали только кислый хлеб, соленая рыба, икра, зелень, ягоды. Для кочующих тунгусов в случае эпидемии единственной мерой предосторожности оставалась отправка человека в ближайшее стойбище, чтобы разузнать есть ли в нем больные.
В 1920-е годы многие сибирские районы оставались охваченными эпидемиями оспы, тифа, дизентерии, холеры. Работники Красного Креста отмечали слабость медицинской помощи в аборигенной среде. Их деятельность, развернувшаяся на всей территории Сибири, включала вакцинацию против заразных заболеваний, строительство больниц, акушерских пунктов, формирование штата медицинских сотрудников. Местные осознавали спасительность этих мер, к примеру, у докторов даже спрашивали, нет ли у них прививок (ГАНО, ф. 354, оп. 1, д. 84, л. 4). Большое значение придавалось изменению статуса женщины, что влияло на демографические показатели. О высокой смертности детей свидетельствовали следующие данные 1926 г.: на 74 остяцких матерей пришлось 410 беременностей, из них 15 выкидышей, 227 детей умерло, 168 осталось в живых (ГАНО, ф. 354, оп. 1, д. 83, л. 4-8). Сложная работа предстояла по изменению традиционного порядка жизни. В отчете 3 отряда РОКК оценивалась особенность кочевого уклада: «… неумение жить «с расчетом» всякий раз заканчивается тем, что все добытое потом и кровью зимой – пролетает в самый короткий осенний период времени» (ГАНО, ф. 354, оп. 1, д. 83, л. 10).
Мероприятия по изменению жизни аборигенов включали санитарнопросветительскую работу. Члены экспедиции столкнулись с сопротивлением местного населения, когда оно отказывалось воспринимать убеждения, кроме практической помощи. В пропаганде новых форм жизни использовались приемы дипломатии. Персонал Красного Креста выбирал самые гибкие методы. К примеру, для разъяснительной работы под предлогом обследования больного на дому в его жилище собирали жителей деревни. В ходе лечения всем присутствующим давались советы, как уберечься от тех или иных болезней. Лекторы выбирали те вопросы, которые больше всего беспокоили население. В 1926 г. в ходе медико-гигиенической акции было проведено 48 лекций о трахоме, малярии, глазных болезнях, поставлен платный спектакль местными силами при участии сотрудников отряда, сделана выставка картин по сифилису (ГАНО, ф. 354, оп. 1, д. 83, л. 17).
В своей сибирской практике работники РОКК встретились с явлением шаманизма. В южных районах и северных – среди алтайцев, шорцев, хакасов, якутов, шаман имел определенный вес в обществе как хранитель традиций и лекарь. Но ослабление его мощи в этот период свидетельствуют факты выбора «туземным» населением врачебной помощи как более эффективного средства в борьбе с заразными и неизлечимыми заболеваниями. «Туземцы» отправлялись лечиться за 200-300 верст, иногда за 500. В Якутской области Амгинский аймачный исполком после 1,5 месяцев работы глазного отряда сделал вывод, что врач сильнее шамана и решил его «символы могущества» передать отряду Костюм шамана был направлен на санитарно-гигиеническую выставку в г. Вену (ГАНО, ф. 354, оп. 1, д. 83, л. 24).
Данные, собранные санитарно-просветительскими отрядами в самых разных уголках Сибири, не согласовались с ранее общепринятыми утверждениями о вымирании малочисленных народов. Отмечалось, что, несмотря на большую заболеваемость «туземцев», они отличаются большой естественной стойкостью и сопротивляемостью. Шорцы, пораженные в больших размерах сифилисом, остаются многосемейными, у них в семьях 4-5 человек детей. То же самое в Якутской области – на 363 мужчин приходилось 333 женщин, детей – 198 мальчиков и 178 девочек. Эти показатели служили подтверждением сохранения воспроизводства аборигенов. Комиссия сделала вывод, только за счет ухудшения экономического состояния, притеснения со стороны русских «инородцы» лишаются источников существования и обрекаются на вымирание. Тогда опустошение среди них производят эпидемические заболевания (ГАНО, ф. 354, оп. 1, д. 83, л. 24).
Завершающий 1928 год работы Российского общества Красного Креста среди малых народов Сибири выявил тенденцию сближения их с русскоязычным населением. Появилась новая социальная болезнь – пьянство и как следствие этого насилие, убийство, до этого практически не отмечаемое в среде тунгусов и остяков (ГАНО, ф. 354, оп. 1, д. 274, л. 1-5) . Факты, собранные в течение трех лет, показали противоречивость процесса «оздоровления» коренного населения. С налаживанием системы медицинской помощи проникали «блага» цивилизации, к которым аборигены не были готовы. В целом кампания санитарно-просветительских отрядов подчеркнула необходимость комплексного решения вопроса интеграции коренных народов в современную цивилизацию, что должно происходить по административной и врачебно-культурным линиям. В итоге проведенных мероприятий стали заметны положительные изменения – появилась сеть медицинских учреждений, амбулаторная и стационарная помощь, женщина получила социальные права; новые бытовые, гигиенические условия позволили повысить уровень жизни.