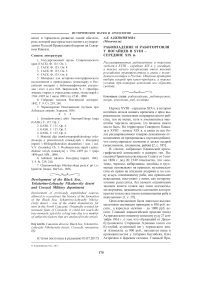Рабовладение и работорговля у ногайцев в XVIII- середины XIX в
Автор: Аджиниязова Айгуль Камбиевна
Журнал: Известия Волгоградского государственного педагогического университета @izvestia-vspu
Рубрика: Исторические науки и археология
Статья в выпуске: 7 (120), 2017 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается рабовладение и торговля людьми в XVIII - середины XIX в. у ногайцев, а также начало его искоренения Российским правительством в связи с вхождением ногайцев в Россию. Описаны критерии выбора «ясырей» при купле-продаже, а также условия, при которых невольник мог обрести свободу.
Рабовладение, работорговля, ясырь, невольник, раб, ногайцы
Короткий адрес: https://sciup.org/148167020
IDR: 148167020
Текст научной статьи Рабовладение и работорговля у ногайцев в XVIII- середины XIX в
Период XVIII – середины XIX в. в истории ногайцев нельзя назвать временем с ярко выраженными элементами патриархального рабства, тем не менее, хотя и уменьшились масштабы торговли людьми, это явление имело место быть. На территории Северного Кавказа в XVIII – начале XIX в. в связи со все более расширявшимися товарно-денежными отношениями не прекращалась торговля рабами, что стимулировало пленение и захват ясырей (невольников, пленников, рабов) [2, с. 185].
В «Актах, собранных Кавказской археографической комиссией» в рапорте ген. Па-скевича Правительствующему Сенату от 5 июня 1828 г. под № 1549 отмечается, что «осетины, черкесы, кабардинцы, нагайцы и трух-менцы основывают на правилах мухаммедан-ства их право на владение ясырями и по слову ясырь , означающему раба, или правильнее невольника, поступают с ними, как которому хозяину разсудится, без всякаго ограничения законом власти хозяев над сими несчастными жертвами, названными холопьями для прикрытия только жестокаго наименования раба и невольника» [1, с. 29].
Цена невольников была довольно высока: мальчиков оценивали примерно в 500 руб. ас-сигн., а взрослых мужчин – до 1000 руб. ас-сигн. Главный караногайский пристав писал Астраханскому нижнему земскому суду 27 сентября 1816 г. о том, что «бежавший от Джем-булуковского Старшины Аджиева холоп его Кутлубай, купленный им у черкесского князя Алимоллы за 900 руб., находится ныне в проживательстве у татарина Балтабека, близ Астрахани в Царевом селении. Главный При-
став просит Земский Суд отобрать Кутлубая и возвратить его хозяину его Аджиеву и удовлетворить Аджиева за понесенные им убытки, за передержательство его холопа» в течение двух лет в размере 420 руб. [4. Л. 380].
Освещая социальные отношения ногайцев в указанном периоде, Д.С. Кидирниязов выделяет две категории рабов:
– джоллукулы («рабы, имеющие путь») – крестьяне, находившиеся в личной зависимости от господина и передававшиеся по наследству, однако имевшие жилище, скот, орудия труда, а также семью;
– джолсызкулы («рабы, не имеющие пути»), иначе называвшиеся ясырями.
Последние никаких имущественных и социальных прав не имели. Даже жизнь их зависела от произвола господина [3, с. 124].
Со второй половины XVIII в. с сооружением Кавказской линии, усилением российской политики работорговля уменьшает свои обороты. Основной составляющей категорией рабов у ногайцев служили представители других конфессий, купленные у работорговцев, либо украденные в малолетнем возрасте мальчики. Обычно ногайцы представителей мусульманской религии не обращали в рабство, но бывали исключительные случаи. Так, в письме от 28 августа 1769 г. аксайского жителя Солтан-бека Магомед Уцмиева кизлярскому коменданту генералу Потапову показан пример порабощения азербайджанца: «От подателя сего письма Емчека моего ногайца Абдурахмана бежал собственный ево холоп родом подлинно каджаренин (азербайджанец. – А.А. ), того ради ваше превосходительство покорно прошу повелено было реченого холопа отдать ему обратно» [6. Д. 727. Л. 38].
Труд раба у ногайцев чаще всего использовался в сфере скотоводства: при выпасе скота, в хозяйстве (рытье колодцев, изготовление топлива (кизяка) для обогрева жилища и приготовления пищи), редко – в земледелии, поскольку ногайцы только начинали осваивать навыки обработки земли.
С усилением русского влияния запрещалось иметь рабов православного вероисповедания. Данное условие в корыстных целях, чтобы освободиться, использовалось рабами, исповедовавшими мусульманскую или буддийскую (калмыки) религию. По свидетельству архивного документа, «холопы весьма часто ложно показывают себя веры грекороссийской или армянской, на тот единственно конец, дабы избавиться рабства и платежа выкупной за них суммы денег» [4. Л. 134].
Несмотря на подписанный в 1804 г. Александром I закон «О запрещении армянам торговать невольниками» с прямым указанием «нужным сей постыдный торг строго запретить», армяне продолжали участвовать в делах, касающихся купли-продажи невольников [5]. Как пишет Е.И. Иноземцева, практиковавшаяся в регионе в течение столетий работорговля вызвала появление посредников в лице купцов, у которых торговля рабами превратилась в специальный промысел. Справедливости ради, следует заметить, что закон 1804 г. особо касался нахичеванских армян, вывозивших невольников из Закавказья [2, с. 130].
Так, в архивном документе, датированном 1841 г., написано о продаже армянином Солнцевым двух азиаток ногайцам Таготу и Таго-тару Кубаноглы: «Однодворец Сафрон Стребков заявил Ставропольскому Коменданту, что в конце сентября или в начале ноября 1841 г. приезжавший из-за Кубани в 3-й Верхний аул при р. Грачевке неизвестный ногаец продал Та-готу и Таготару двух пленных женщин, и сам с другими двумя пленными женщинами уехал неизвестно куда. Тагот и Таготар Кубаноглы показали, что они действительно купили двух пленных женщин у армянина Барона Солнцева по 700 руб. ассигнациями за каждую, и что Солнцев, кроме этих двух пленных, привозил для продажи еще 9 женщин» [4. Л. 460]. Для того чтобы дать оценку таким действиям вездесущих на Северном Кавказе армянских купцов, следует обратиться к свидетельству В.С. Шамрай: «Для выкупа пленных у азиатцев в распоряжении Кавказского начальства ассигновывалась ежегодно известная сумма денег и разрешено было всем Кавказским обитателям русско-подданным, как христианам, так и магометанам, выкупать от непокорных горцев пленников» [7, с. 6]. В этом процессе живейшее участие принимали и дагестанские владельцы: они предлагали российским властям якобы выкупленных ими рабов-христиан, требуя возместить им заплаченные за них деньги. Архивные документы свидетельствуют о подобных случаях ложного принятия христианского вероисповедания при активном участии в этом процессе армян.
Главный караногайский пристав 22 октября 1814 г. сообщил в Георгиевский нижний земский суд, что «пропавшие назад тому месяц или более у Старшины Кипчакова аула – Маилакай Алманбетова холопья его Новруз и Усеин отысканы у армян в сел. Прасковея, Георгиевского уезда. В виду этого Пристав, посылая в Земский Суд Алманбетова для указания армян, укрывающих его холопов, про- сит Суд сделать распоряжение о возвращении этих холопов их хозяину. А если Усеин действительно желает принять армянскую христианскую веру, то наблюсти за этим и позаботиться, чтобы хозяин его Алмамбетов был удовлетворен за убытки, понесенные от покупки его» [4. Л. 371].
В черновом рапорте главного караногай-ского пристава «Главнокомандующему в здешнем Крае и кавалеру Ртищеву» от 11 января 1816 г. за № 15 говорится о том, что холоп Усеин действительно принадлежит Алмаметову, а холоп Аллаберды принадлежит Умарову. Однако желание принять христианскую веру не было исчерпывающим фактором для освобождения раба. Не желая смириться с потерей товара в лице невольника, рабовладелец настоятельно требовал вознаграждения: «Главный Пристав просит распоряжение о возвращении означенных холопьев их хозяевам или об удовлетворении хозяев заплаченного ими за холо-пьев суммою, а также о воспрещении впредь делать подобныя сим претензии беглым ногайским холопьям; ежели-же оные пожелают принять христианский закон, то повелеть удовлетворить хозяев их в полной мере» [Там же. Л. 372].
Далее, разбирая случай бегства холопа Усеина, Кизлярское армянское духовное правление 8 октября 1815 г. сообщило главному караногайскому приставу, что «в присутствие онаго Правления явился армянин Хачатур Григорьев (т.е. холоп Усеин) и объявил, что он назад тому 37-й год был взят в плен горскими лезгинами из села Крак-Басана Елиса-ветинского округа и продан ими в Заречную Андреевскую деревню, а оттуда тайно привезен в Кизлярский уезд, в Кипчак аул, где продан ногайцу Каданет Алмаметову. Потом Григорьев узнал, что Андреевский житель продал его тайно, с единственной целью “удалить его от православной христианской своей веры, а сделать бусурманом, каковой поступок их по алкорану велено за блаженство считать”» [Там же]. Духовное правление сообщает об этом главному приставу и уведомляет, что Григорьев оставлен при армянской церкви до распоряжения.
Главный караногайский пристав 26 октября 1815 г. сообщил кизлярскому армянскому духовному правлению, что назвавшийся армянином Григорьевым «есть действительно холоп, принадлежащий ногайцу <…> Куданет Алмаметову и называемый настоящим его именем Усеин», куплен у «заречного жителя костюковских ногайцев Кадыя Тамеева за 900 руб. ассигнациями» [4. Л. 374].
Другой похожий случай наблюдаем в переписке главного караногайского пристава с полковником Курпатовским: «Ногаец Тогун-чиева аула Аджикиши заявил Караногайскому Приставу, что холопка его из татарок по имени Ашура, купленная им у ногайца Сатыба-ла (доставшаяся сему последнему по покупке от Кизлярскаго тезика Мурзы Магомет Аджи-бек-Бабаева)», бежала от него и находится у войскового старшины Гребенского казачьего войска Фролова, «выдавая себя христианского исповедания» [Там же. Л. 379]. Пристав просит полковника Курпатовского отобрать у Фролова холопку Ашуру и передать ее хозяину.
Шеф 16-го Егерского полка полковник Курпатовский 6 ноября 1815 г. сообщил главному караногайскому приставу, что так как холопка Ашура «показывает себя греко-рос-сийскаго исповедания, по имени Натальею, а по прозванию Брагушкина», то он не решился отдать ее хозяину и сообщил об этом бригадному командиру.
В рапорте главного караногайского пристава г.-м. Дельпоццо от 11 июня 1816 г. № 236 изложена просьба сделать распоряжение о возвращении холопки Ашуры ее хозяину Аджи-киши, причем поясняется, что она ложно называет себя христианкой, в действительности же она магометанка. Дельпоццо ответил главному караногайскому приставу 16 июня 1816 г., что он предписал Гребенскому казачьему войску немедленно отправить к нему женщину Ашуру, если свидетелями не будет подтверждено, что она христианка [Там же. Л. 379]. Политика российских властей на местах была направлена на то, чтобы ясыри из христиан попадали под покровительство российских комендантов и не подлежали возвращению кавказским рабовладельцам. В местных архивах содержатся многочисленные свидетельства этого процесса.
Встречались случаи, когда рабы, желая заполучить свободу, просили за выкуп освободить их. В письме караногайского пристава от 15 января в Кизлярское городничество 1814 г. читаем, что у ногайца Азаманова четырьмя месяцами ранее бежал его «холоп из черкес Сулейман, купленный у здешняго жителя Черева-ева», а ныне оказывается, что холоп этот «находится здесь в Кизляре и проживает у частного Пристава сего Правления Баграма Арапетова». Главный пристав просит отобрать у частного пристава Сулеймана и прислать к нему. Сулейман был возвращен хозяину его Азаманову, но, не желая оставаться у него, уговорил его взять с него 400 руб. и дать ему свободу. Азаманов согласился, и Сулейман был отпу- щен, но, не исполнив договора (об уплате денег), бежал [4. Л. 367].
В рассматриваемый период, согласно архивным документам, при купле-продаже рабов критериями служили признаки хорошего здоровья, выносливости, т.е. рабов выбирали как животных для хозяйства. В одном из архивных источников (копии свидетельства покупки холопа) подробно описан случай, когда«ногаец Мустафа Телемишев купил у абазинца Блитуки мальчика за 500 руб. с условием, что оной мальчик никакой в себе потаенной болезни не имеет, а буде окажется через несколько месяцев какая-нибудь на нем болезнь, то возвратить ему, Телемишеву, обратно деньги безхлопотно; и после покупки не прошло полтора месяца, как оказалось на том мальчике болезнь падучая, которой по условию по известности нам доставлен обратно к упомянутому Кудашеву». Далее в документе говорится о том, что «Командир Волгскаго казачьего полка уведомил Главного Караногай-ского Пристава, что выкрещенный абазинец Федор Оттов показал, что им мальчик ногайцу продан здоровой и никогда никакою болез-нию одержан не был, а при продаже им онаго условие у них было, ежели иногда сей мальчик учинит от ногайца утечку и явится к абазинцу, то оной должен его обратно доставить ногайцу» [Там же. Л. 375].
Затем по данному разбирательству главный караногайский пристав 7 марта 1815 г. предписал едисанскому и джембойлуковско-му приставу потребовать от Мустафы Телеми-шева свидетелей по крайней мере человек 15 и отобрать от них показания под присягою. Были допрошены 16 свидетелей. Из этих показаний видно, что «мальчик куплен Телеми-шевым у Оттова за 500 руб., в счет коих покупщик уплатил деньгами 300 руб., а вместо остальных 200 руб. дал 2 лошади и 2 кобылы, с условием, что если мальчик окажется больным, то продавец обязан взять его обратно и вернуть покупщику деньги. Мальчик оказался больным падучею болезнью» [Там же. Л. 376].
Рабы порой совершали побеги, но обычно их ловили и возвращали обратно к хозяину. Так, 26 ноября 1814 г. главный караногайский пристав писал майору Найденову, что у кара-ногайца Асанова бежал холоп его из чеченцев Акболат, купленный им у татарина Баймурзы, и увел с собою его жеребца. Позже холоп этот был задержан в ст. Наурской [4. Л. 377].
Чрезвычайно разнообразными были идеи рабов в стремлении обрести свободу: помимо принятия христианской веры, рабы неред- ко выдавали себя за казаков. Например, архивный документ (отношение главного караногай-ского пристава полковнику Курпатовскому от 10 декабря 1815 г.) показывает подобный случай: «Ногаец Осман Умаров заявил, что назад тому 5 месяцев бежал у него холоп Аллаберды, купленный более уже 10 лет Кизлярским тези-ком Бачаем Ашурмаметовым у здешняго персиянина, а потом проданный в Ногайские аулы и, переходя от одних хозяев к другим, наконец, куплен им, Умаровым, назад тому 5 лет того же аула у Ибрагим муллы Биляль Афендие-ва за 500 руб. ассигнациями. А ныне, как из-вестился он, Умаров, находится тот слуга его Аллаберды у вашего высокоблагородия, показав себя ложно казаком» [Там же. Л. 107].
Из архивных документов известны факты возврата рабов ногайцам казаками. Так, в 1815 г. «шеф 16-го Егерского полка полковник Курпатовский препроводил к главному карано-гайскому приставу пойманного ногайца Бей-чуру Хажакова, принадлежащего караногай-цу Мусе, фамилии которого не знает. Хажаков объяснил, что он был продан Мусе в холопья назад тому 3-й год ногайцами, проживавшими на Кубанских Барсуках» [Там же. Л. 377].
Тот же самый Курпатовский вернул другого сбежавшего холопа Магомета Сакуна, бежавшего от ногайцев «родом из Большой Ка-барды; подвластным был князя Дударукова; лет 8 тому назад был продан Дударуковым в деревню Андрееву узденю Гаджию, а Гаджи-ем почти через год продан ногайцам аула Кап-чаева (Кипчак аул) трем братьям Эразе, Ама-макаю и Аманабрыю (фамилии которых не помнит); прожил у них лет 7 назад, тому около месяца бежал, с намерением перебраться в отдаленыя чеченския деревни; дошел до Терека и был задержан казаками» [Там же. Л. 378].
В архивных документах XVIII в. встречаются случаи передачи ногайцами рабов в счет калыма. Аксаевский владетель Асланхан Каплан Ахмедханов в письме от 23 июля 1753 г. писал кизлярскому коменданту, что «у умершего нашего брата Арсланбека калмыцкой нации холоп был. А тот холоп достался нам в студеную зиму от кизлярских кочевых ногайцев в калым» [6. Д. 291. Л. 81].
Как известно, бывали и такие случаи, где в пленение попадали мальчики не только крестьянского происхождения. В 1840 г. Моздокским судом разбиралось дело некоего черкеса Исмаила Мусаева, оказавшегося в рабстве у ногайцев, который в прошении, поданном в 1834 г. июля 25 дня к и. д. Моздокского Окружного Начальника, изъяснил, что «остав- шись после родителей его в магометанском законе десятилетнего возраста, он, по молодости лет и несмышлености, был продан черкесом Бек Мурзой ногайцу Давут Бугусаеву, у коего находясь до прошедшего года, отпущен по неурожаю в хлебе <…> впредь до будущего урожая; за истечением голодного времени, он в июле того года, являясь к нему в аул, просил его принять вновь под свое покровительство, но Бугусаев, от управления его отказываясь, требует от него 100 руб., за каковую сумму обещаясь отпустить на волю. Но Исмаилов, узнав от старожилов, что он и семейство его никогда не принадлежали в крестьянстве, просил Окружного начальника истребовать от владельца его документ на право владения им» [4. Л. 78]. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что «Исмаил Мусаев, будучи в малолетстве, достался по покупке за 1000 руб. ассигн. в крестьянство Дженбуков-скому ногайцу Бусаева аула Дауту Кель Мамбетову еще до 1808 г. от кабардинца Бек Мурзы Кошева». В итоге Моздокский Суд решил, что «черкесу Исмаилу Мусаеву предоставить свободу с тем, чтобы он в течение 9 месяцев приписался с семейством к какому ни есть городскому обществу» [Там же].
В 20-е гг. XIX в. вопрос об «искоренении ясырей» возникал все чаще. В 1827 г. ген. Па-скевич в г. Ставрополе собрал представителей кочующих магометанских народов Кавказской области для обсуждения данного вопроса. Государственный Совет 17 мая 1835 г. принял решение уничтожить название «ясырь» «как не свойственное по закону российскому подданству» [7, с. 7]. Принятие Государственным Советом такого решения привело к негодованию ногайцев: «пристав Калажо-Саблинскаго и Белетово-Кумскаго народов в 1842 году доносил начальнику Кавказской области, что при объявлении положения о ясы-рях среди означенных народов произошло волнение и они просили разрешения хлопотать у государя императора, чтобы холопы их оставались на таком же основании, каким правом пользуются тахтамышевцы и закубан-цы» [Там же, с. 8].
В 60-х гг. XIX в. имперская политика в отношении рабства и торговли ясырями в связи с буржуазными реформами в России стала более последовательной, что в итоге привело к искоренению этого позорного для любого общества явления.
Список литературы Рабовладение и работорговля у ногайцев в XVIII- середины XIX в
- Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Тифлис, 1866. Т. VII. № 896.
- Иноземцева Е.И. Институт рабства в феодальном Дагестане: Очерки истории. Махачкала, 2014.
- Кидирниязов Д.С. Ногайцы в XV-XVIII вв. Махачкала, 2000.
- Научный архив Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 15.
- Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Т. XXVIII. 1804-1805 гг. № 21246.
- Центральный государственный архив Республики Дагестан. Ф. 379. Оп. 1.
- Шамрай В.С.Историческая справка к вопросу о ясырах на Северном Кавказе и в Кубанской области и документы, относящиеся к этому вопросу//Кубанский сборник. Екатеринодар, 1907. Т. 12.